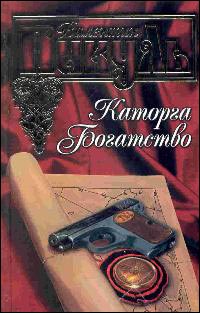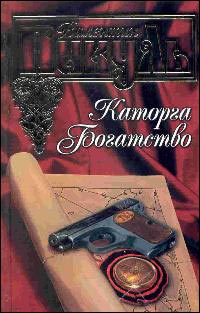Книга Баязет - Валентин Пикуль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
…По уходе с отрядом в Араратские долины полковник Хвощинский оставил свою жену на попечении капитана Сивицкого.
Как опытный офицер, он не был уверен в удачном исходе рекогносцировки и предвидел издалека, что Баязету предстоит осада, снять которую будет нелегко. Что же мог поручить Никита Семенович своему старому другу накануне своей гибели?
— Мы тогда долго беседовали, — рассказывал Сивицкий, не глядя на прапорщика. — Уже ночью… Вино было. Да. Но это не мешало. Я, конечно, не соглашался. И вот этот револьвер. Глупости!
Я так и сказал ему — глупости! Но он был настойчив. Он видел дальше меня… Вы, барон, понимаете: здесь ее опоганят и продадут.
Как мешок орехов. У них так и написано в Коране: женщина — как мешок орехов. И он боялся этого. Он не мог оставить ее так.
Клюгенау выглядел спокойным, только чаще моргал из-под очков.
— А вы? Что же вы? — спросил он.
— А что — я? .. Я говорил — нет, глупости… ерунда! Он меня убедил. И взял… Я взял… вот это, — Сивицкий показал на револьвер.
— Системы «ле-фоше». Семь камор. Пули из мельхиора. Я ведь врач. И знаю, куда надо выстрелить. Хватит и одной. Наповал…
Вы думаете, мне легко было дать ему слово?
— Не думаю.
— А тяжело-то вот стало только сейчас. Башибузуки ревут за стенкой. Жуть! .. Ворвись они сюда, и я знаю, чем это все кончится.
Мы тогда долго с ним говорили. Была только одна оговорка: «Если она согласится на это».
— И она… согласилась? — спросил Клюгенау.
— Кой черт! — вспыхнул врач. — Я еще не выжил из ума, чтобы спрашивать женщину об этом! Всю жизнь я лечил людей, но не убивал…
Сивицкий решительно передвинул револьвер через стол к прапорщику Клюгенау.
— Вот и все, — устало сказал он. — Вы, надеюсь, не откажете мне в этом. Я знаю, что ваше отношение к ней гораздо сложнее, чем многие думают. И вы сами не пожелаете, чтобы она попала в чьи-то грязные лапы!
Клюгенау передвинул револьвер от себя на середину стола.
Теперь он лежал между ними, блестя вороненым дулом, почти красивый в своем железном безобразии ломаных линий.
— Вы… ошиблись, — заключил Клюгенау. — Моя рука не сильнее вашей. Я могу убить себя. Могу, наконец, убить и вас.
Но выстрелить в женщину, которая стала для меня… Нет, господин капитан. Очевидно, вы измеряли мое благородство каким-то преувеличенным аршином!
Сивицкий медленно, почти с усилием произнес в ответ:
— Но я знаю силу вашего духа, барон… Вы не смеете отказать мне. Я перебрал всех людей в гарнизоне, кто был бы способен на это. Нет, только один вы не спасуете в нужный момент. Вы же ведь не поэт, а солдат, Клюгенау. Вы прирожденный солдат! ..
— Нет, — снова повторил Клюгенау.
Сивицкий, сразу же поникнув плечами, опустился на стул.
— Боже мой, зачем же я тогда рассказал вам все это? Такое ведь не говорят никому… Просто я — старый дурак!
— Нет, — отчеканил Клюгенау, вставая.
Врач поднял лицо:
— А если я вас буду просить? Умолять буду? Поймите, что я не могу иначе…
— Нет. Не надо меня умолять. Dixi! — закончил барон по-латыни, и врач его понял.
Клюгенау ушел. Сивицкий вдруг скособочил толстый неопрятный рот, мятое лицо его вдруг по-старчески обмякло, и он с хрипом выдавил из себя первое рыдание. Потом, продолжая плакать, капитан добрался до своей постели, разбросал по комнате сюртук, шаровары и сапоги. Рыдания его были болезненны, почти мучительны, но врач был не в силах сдержаться и, задув фитиль, продолжал плакать в темноте.
— Проклятая судьба! — бормотал он, вспоминая все неудачи своей неуютной холостяцкой жизни. — Никакой радости… Хуже собаки! А тут еще и это…
Дверь открылась, и кто-то вошел к нему.
— Кто тут еще? — спросил врач. — Это ты, Ненюков?
— Нет, это я… Клюгенау.
Сивицкий долго молчал в темноте.
— Что вам надо, барон?
Федор Петрович сказал:
— Видите ли, я как следует поразмыслил. Не вы — так я…
Кому-то ведь надо. А вы, боюсь, не сможете сделать это. Но отдать женщину на поругание, это… хуже убийства! И вот я пришел сказать вам: дайте мне револьвер…
— Можете взять. Он там, на столе.
Клюгенау долго шарил в потемках по столу, на ощупь отыскивая револьвер.
— Здесь полный барабан? — сросил он.
— Да, семь камор.
— Хорошо, я пойду. Спокойной ночи, капитан.
— Спасибо. Теперь я спокоен, барон.
8
Рано утром на всех минаретах города показались муэдзины.
Взявшись руками за мочки ушей или подперев щеки, как это делают в горести русские бабы, муэдзины блаженно закрыли глаза и дико, но дружно затянули согласный мотив:
— Ля-иллаха-илля аллаху вэ Мухаммед расуль аллахи! — В этом чудовищном вопле слышалось что-то свирепое и грозное, словно призыв к страшному злодеянию…
Турецкие стражники разложили коврики-седжадэ и тут же, стоя на карауле, начали творить священную молитву.
Нищие на майдане оставили азартную ловлю паразитов на своих лохмотьях (которую предусмотрительный аллах предписал правоверным наряду с омовением) и тоже согнулись в поклоне.
Кузнецы отбросили молоты, сложившись в молитве, словно тараканы в смрадных щелях кузниц, и раскаленное железо будущих ятаганов медленно потухало на наковальнях. Одни только мусульманские жены остались без дела, всемогущий аллах не дал женщине приличного места даже на том свете, где живут ее соперницы — сладострастные гурии…
— Несите мне воду, — повелел Фаик-паша.
В круглой серебряной чаше, на дне которой плавал кусочек мыла, паша сполоснул себе руки. Верный негр-саис надушил ему бороду. Чубукчи-трубконосец подал кальян и накинул на плечи военачальника розовый атласный халат. Наряд Фаик-паши довершила чалма зеленого цвета, выдававшая в нем прямого потомка Магомета.
— Несите мне еду, — велел он.
В рамазан воспрещено есть и курить, пока можно отличить белую нитку от черной. Но на войне и в путешествии пророк все это дозволяет, и потому суп следовал за вареньем, жаркое за хурушами, паша лил в шербет вино, около сорока блюд сменяли одно другое. И едва Фаик-паша брал щепотку, как кушанье тотчас же убиралось, освобождая место для нового блюда. Если бы Фаикпаша читал Сервантеса, он бы, наверное, припомнил подобную смену блюд из обеда Санчо Пансы на острове Биратария.
— Зовите чтеца! — повелел Фаик-паша, сочно рыгая от пресыщения.
Чтец с поклонами и завываниями читал ему письмо от кизлярагы. Сначала в письме шла речь о главном — о женах. Старший евнух сообщал повелителю, что у Пирджан-ханум на восемь дней была задержка месячных, а «звезда сераля», маленькая Сюйда, все эти дни играет в мячик. Далее в письме шла речь о пустяках, — о смерти старой жены, о пожаре в имении, о драке крестьян…