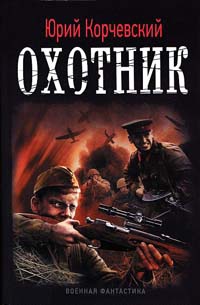Книга Исход - Петр Проскурин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Сколько же мне лет?» — спросил себя Веретенников и стал считать: ему через месяц, второго декабря сравняется тридцать три. Не хотелось думать об отряде, о распухшем лице и ладонях, о том, что будет, когда придет смерть (а что она придет, он уже не сомневался, он привык к этой мысли), и стал думать о матери, о знакомых ребятах, о том, что сейчас может делать мать, и жива ли она вообще, и как бы сейчас хорошо выпить стакан холодной газированной воды без сиропа и чтобы по тонкому стеклу стакана бежали мелкие, частые пузырьки газа, и еще он думал, как ему трудно давалась математика, и он, так и не окончив десятилетку, пошел работать, а отец…
Да, что же он совсем забыл об отце? Где он теперь? Ведь ему дали бронь и послали куда-то за Урал, это случилось еще до того, как сам Иван был вызван в райком и направлен в распоряжение Ржанского обкома, как раз в то время немцы уже охватывали Киев клещами и сжимали кольцо. А из Ржанска вывозили заводы, и он под свистящими осколками сидел и рвал бумаги — не успели проскочить. Горели машины, дома, деревья, все, что могло гореть.
У него была отличная моторная лодка и много приятелей, они ловили по воскресеньям карасей… Вот так он теперь и думал о себе только в прошедшем времени, как если бы он умер и его давно похоронили. Интересно, сколько прошло времени и скоро ли опять утро, опять поволокут на допрос.
Веретенников весь сжался и сел. Скворцов дремал, привалившись спиной к стене, свесив голову на плечо и полуоткрыв рот. Он проснулся от взгляда Веретенникова.
— Что?
Веретенников молчал, глаза его широко раскрыты, лицо неподвижно. Скворцов оглянулся на дверь, волчок закрыт, свет, горевший под потолком пыльным клубком (на него было больно смотреть), падал на лицо Веретенникова сбоку — одна сторона в тени.
— Ты чего, Иван? Плохо? — спросил Скворцов, морщась от нового приступа изжоги — в горле и в груди все горело, саднило, хотя бы один глоток воды. Им не давали пить четвертые сутки, и только был этот режущий пыльный свет под потолком, хлеб и соленые мясные консервы.
— Володька. — Голос Веретенникова тих, отчетлив. — Володька, — повторил Веретенников хриплым шепотом, — я больше не выдержу, все расскажу. Не выдержу, — повысил он голос, глядя перед собой неподвижными пустыми глазами.
Скворцов, напрягаясь, подполз к нему по-собачьи, волоча больную (наверное, была задета кость) ногу, и спросил:
— Что ты расскажешь?
— Подожди… Ты помнишь, сколько дней мы здесь, в гестапо?
— Сегодня неделя сравняется. Седьмой день сегодня, как нас передали в гестапо.
— Седьмой день, — сказал Веретенников. — На седьмой день уже ничего не осталось, вот и все, от человека…
— Иван, мы не выполнили задание, раз Зольдинг передал нас в гестапо…
— Володька, скажи, нас сейчас держат вдвоем… Против всех правил. Не подслушивают, а?
— Тише! Просто, наверно, все решено…
— Понимаешь, во мне уже ничего не осталось… Не могу больше…
— Тише! Надеяться надо, слышишь, Ваня, мы все равно должны надеяться.
— Володька, я уже не человек, ты же видишь, я уж не человек, я скотина… А скотина что? Она боится палки, какой с нее спрос, я боюсь палки, слышишь, боюсь, боюсь… Как получилось, но уже все, понимаешь — все, пропал я.
— Нас так и так убьют, — сказал Скворцов, подволакивая и устраивая ловчее больную ногу. — Зачем себя пачкать? Одинаково конец, пытать будут, один черт, думаешь, так от пыток уйдешь? Ты крепкий мужик… осталось немного, потерпи!
— Все равно, понимаешь, больно, больно… Сил моих нет… Я же тебе сказал. Не смей на меня так глядеть! — сказал он внезапно громким шепотом. — Слышишь, не смей на меня так глядеть! Ты же знаешь, я был смелым, я не боялся, ты же это знаешь! Скажи, что ты знаешь это, ну, скажи, ну!..
— Они все равно будут бить тебя… Однажды поддался, все равно будут мучить. Возьми себя в руки, слышишь, все еще может случиться, слышишь, может, наши… Может отобьют нас… Понимаешь? Это же война, бывает по-всякому, слышишь? Ваня, выбрось это из головы, слышишь? У тебя же есть мать, отец, слышишь?
Скворцов повторял свое бесконечное «слышишь», «понимаешь» и сразу похолодел, поглядев в обезображенное, неподвижное лицо Веретенникова, на черные потеки от слез.
— Ваня… — позвал Скворцов и замолчал; все, все, это — конец, провал плана, мучительно выношенного и такими муками осуществляемого. Гибель сотен людей, гибель отряда…
Сколько еще до рассвета, час, два? Обычно они имеют привычку начинать рано. Неужели конец? Конец, конец, конец… Да, это война, и все-таки имел ли он право требовать от Ивана то, о чем подумал и от чего все в нем…
— Ваня, — позвал он и, не дождавшись ответа, сказал: — Мы ведь знаем, что нас убьют, и можем приготовиться, а тех всех перебьют из-за угла, передушат, как котят. Они доверились тебе, Ваня, ты сам вызвался идти… И я тебе поверил… Я же за тобой пошел, не хотел сначала, но поверил тебе и сейчас тебе верю.
В камере стало тихо.
— Ваня, если ты даже выживешь, ты не сможешь жить, понимаешь, с этим нельзя будет жить. Я же знаю тебя, Ваня, ну что мне для тебя сделать? Ну могу же я что-то сделать для тебя, несмотря на этих выродков, Ваня? Ну, хочешь, я тебе буду рассказывать о греках, о русских богатырях? Без конца буду рассказывать, без передышки, хочешь? Хороший мой, добрый Ваня. Посмотришь, мы еще одолеем их: сколько было на свете Иванов, все они брали верх. Все, все до одного. И ты такой. В некотором царстве, в некотором государстве… Ты потерпи, Ваня, потерпи, скрепись, так мне бабушка говорила, скрепись. Ты еще им покажешь, может, будет налет, бомбежка, понимаешь — все возможно, а сейчас полежи тихонько, вот так, Ваня, вот так, полежи — и силы придут. Полежишь — и силы появятся. И я рядышком с тобой, и все время буду тебе рассказывать без передышки.
И Скворцов, гладя твердое, бугристое плечо Веретенникова, говорил, говорил, вспоминая полузабытые имена древнегреческих богов и былинных витязей, говорил, говорил, боясь остановиться…
4
Он забылся в полусне и очнулся, когда его оторвали от пола руки Кригера; он, еще не придя в себя, узнал эти руки, с толстыми ладонями. Он открыл глаза и увидел в камере троих — Кригера и еще двух незнакомых. И — Ивана. Иван висел у самой стены. Его голое снизу, до пояса, тело бескровно просвечивало на стене, со сбитыми коленками и руками с изломанными ногтями: на стене черным пятном застыла кровь, да, она уже застыла; видимо, Веретенников бился о стену. Он разорвал свои кальсоны и рубаху, сделал из них подобие веревки и зацепил ее за канализационную трубу в углу камеры.
Кригер приподнял и поставил Скворцова на ноги, привалив его к стене. Скворцов узнал еще одного немца, штурмбанфюрера Уриха, и почувствовал: он должен выиграть или проиграть, другого момента не представится.
Отвернувшись от Ивана, уже не Ивана, а кого-то другого, чужого, с выкаченными глазами, Скворцов заставил себя не думать сейчас об этом. Потом, потом… Если у него останется хоть минута одиночества, он попрощается с Иваном. Что ж, Веретенников поступил честно, если больше не мог. А сейчас нужно приготовиться и собрать силы… Надо думать о ребятах, которые им доверились и ничего не знают… Он не повесится, как Веретенников, он не доставит им такого удовольствия; ему сейчас было все равно, он устал, от пяток до затылка — все было одна усталость.