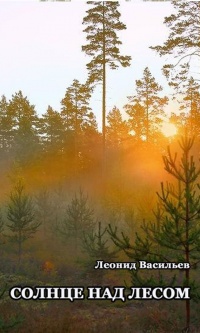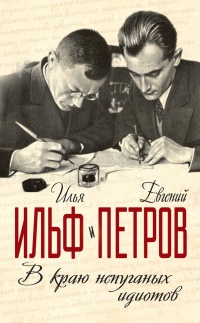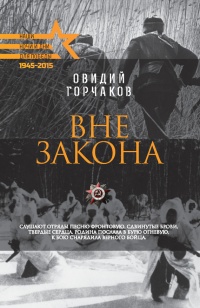Книга В краю непуганых птиц - Михаил Пришвин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Идет Игнатий на песок.
– Слышал?
– Что?
– Поморы утонули.
– Так что же, у нас это часто. У нас по покойникам не плачут.
К варягам
Наконец-то я своими глазами видел, что солнце село. Я вышел на глядень, ожидая парохода, который повезет меня в Норвегию, и как раз, когда я достиг вершины горы, креста, солнце спустилось в океан. На другом глядне в уступах скал стал сгущаться полумрак и в нем один за другим исчезать лиловые колокольчики. Большая белая птица бесшумно села на черный уступ, другая, третья, одна к одной, одна к одной, и вот уже длинный белый ряд спокойно смотрит на горящий пламенем океан.
На один глядень слетаются белые птицы, на другой сходятся черные люди. С камешка на камешек, все наверх, ближе к кресту, откуда виднее, шире простор океана.
Погружаясь в полумрак и дрему вместе с птицами и лиловыми колокольчиками, можно обо всем мечтать тут, у океана: о вечевом колоколе, о новгородской вольнице..
Я не очень рад, что ко мне подошел Зверобой и молча уселся возле. Знаю, что он хочет завести какой-то умнейший разговор. Тоже и другие мои приятели: Игнатий и Фауст. Я уже пережил Мурман, мечтаю о Норвегии, о возвращении к своим привычкам, занятиям… И так это тягостно сознавать, что непременно нужно вести умную беседу.
– Ну… – говорю я наконец Фаусту, – о чем ты думаешь?
– О всем помаленечку, – рад он начать, – о том, о сем. Все вот вертится да кружится…
– А все на своем месте, – доканчиваю я за него его любимую мысль.
– Все стоит! – подхватывает он и, подумав немного, говорит: – Вот вы ученые…
– Ну…
– А не можете, чтобы молодым сделать?
– Нет!
– Вот…
Мы немного молчим. Я чувствую, как у Фауста кружатся в голове отрывки воспоминаний, недоконченные мысли, как они плывут, крутятся, перевертываются наизнанку и, сделав оборот, опять начинают все по-старому, опять все стоит на своем месте. Фауст – сильно помятый жизнью человек. Зверобой – полная ему противоположность. Ему лет шестьдесят, а на вид сорок.
– Вот бы, – говорю я, – мне таким быть в твои годы.
Он изумляется.
– Ты лучше будешь. Вы не работаете.
– Как не работаю?
– Так… От работы люди стареют, а вам что. Вы не работаете.
– Как не работаю? Весь день работаю. Всегда работаю!
Зверобой улыбается. А я горячусь, хочу почему-то во что бы то ни стало доказать ему, что и я работаю…
– Я головой работаю.
– Голо-во-ой, – протягивает он. – Так какая же это работа? Это хитрость.
Тысячи раз я наталкивался на эту стену непонимания народом интеллигентного труда. Но никогда мне не хотелось вступаться за него так, как теперь.
– Голово-ой… – продолжает помор. – Мало ли что я головой могу выдумать. Стяжной ты человек, хитрый и могущественный, вот и все. Ты поработал бы у нас на шняке.
В другое время, при других условиях, я, может быть, и смутился бы от этого аргумента. Но здесь… Я только что мечтал о том, как я попрошу у капитана газетку и утолю свой волчий аппетит. Работа на шняке меня не очень соблазняет и потому, что я не очень доволен всей этой компанией поморов. Всех их томит теперь в ожидании парохода тоска по водке. Как только он придет, появится вино, начнется пьянство, слетуха. Я теперь хорошо понимаю этот мурманский заколдованный круг. Пока ловится наживка и дует легкий горний ветер, идет рискованная, почти героическая работа. Как только перестала ловиться наживка или подует морянка, так начинается тоскливое ожидание парохода с вином, пропивание всего заработанного и слетуха. В результате «все стоит на своем месте». Русские поморы промышляют рыбу на таких судах, которых уже не помнят в Норвегии, где суда совершенствуются постоянно, где поморы защищены от случайностей. Я слышал уже не раз, что норвежцы с хохотом встречают русского помора на том судне, которое они давно забыли и которое в Норвегии можно встретить только в музее… Нет, я не хочу работать на русской шняке, не признаю ее и возмущаюсь.
– Хитрость! – говорю я Зверобою. – Но если я о ваших порядках, о том, что вас тут оставляют без всякой защиты, не помогают вам, напишу книжку и вам помогут устроиться, как в Норвегии… Разве это хитрость, а не труд?
– Напиши, напиши, – просит он, – дело хорошее.
А сам думает по-своему. Сам не может понять, как за одни голые мысли можно получать деньги. Ведь и он тут думает постоянно, всякое его действие сопровождается мыслью, но платят ему за треску, в которой соединились и его «хитрость», и физический труд…
Мы, вероятно, много бы интересного вынесли для себя, если бы могли развить дальше нашу тему.
Но источник нашего общения – искренность – прекратилась. Помор молчит и в глубине души считает меня ловким пройдохой, а я его «типом». Наши личные пути разошлись, и я готов расстаться со всеми гениальными мыслями Толстого, Рёскина и Руссо, лишь бы отстоять уделенный мне уголок умственного труда…
Тут вскоре зуек, усевшийся на самом высоком камне у креста, закричал:
– Дым!
– Пароход, дым! – загудели поморы, две белые птицы сорвались и закружились с криком над нами.
Еще два-три часа, и этот пароход повезет меня в Норвегию, в страну, где нет уже неграмотных поморов, где уже давно не говорят о том, что сейчас говорили, где моя «хитрость» встретит признание не только в людях, но и в бесчисленных одушевленных ими вещах. Там живут те самые варяги, о которых сложился такой известный и горький нам анекдот: придите, княжите…
Дым парохода все ближе и ближе, показываются труба, корпус.
Свисток перебегает от горы к горе, будит птиц. Они взлетают белым облаком над черным Мурманом, похожим на окаменелого слона. Люди тоже расходятся, спешат к лодкам один за другим. Опять, как и в самом начале, я кладу свои вещи в первую попавшуюся мне шняку; по чемодану шагают, опираются на меня, перепрыгивая с лодки на лодку, и приговаривают:
– Сиди, сиди, сел и сиди.
Вичурный напивается уже во время стоянки, и вот последние слова, которые я слышу, уезжая к варягам:
– Меня в Амбурге знают. Мошка-р-р-ра!
Кильдинский король
24 июля
Кончена дикая жизнь… Ружье, удочка, охотничьи сапоги, котелок и чайник упакованы и отправлены домой. Я в одежде культурного человека и готов покаяться перед Европой в измене ей на целых три месяца. Все мои помыслы обращены теперь к Норвегии. Я почти ничего не знаю об этой стране положительного: общие скудные исторические сведения, долетевшие через газеты отдельные факты без сознательного к ним отношения… Но у русских есть какая-то внутренняя интимная связь с этой страной. Быть может, это от литературы, так близкой нам, почти родной. Но, быть может, и оттого, что европейскую культуру так не обидно принять из рук стихийного борца за нее, норвежца. Что-то есть такое, почему Норвегия нам дорога и почему можно найти для нее уголок в сердце, помимо рассудка. То же, но иными словами мне много говорили о ней русские поморы. На судах наши русские моряки встречаются и с англичанами, и с немцами, но всегда отдают предпочтение норвежцам: самый лучший народ норвежцы, слышал я сотни раз.