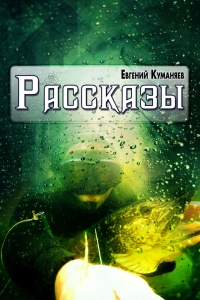Книга Жестяные игрушки - Энсон Кэмерон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Нарушая правила, я паркую «КОЗИНС И КОМПАНИЮ» на боковой улочке у Сент-Килда-роуд и поднимаюсь на холм пешком. По дороге я задерживаюсь, перегибаюсь через чью-то невысокую, по пояс кирпичную изгородь, и меня тошнит бордовой жижей на растущие за ней мяту и петрушку. Я смахиваю рукой нити слюны, висящие у меня изо рта, и стряхиваю их с руки, и они щупальцами наматываются на мяту. Она придет… или не придет.
Я выхожу на Сент-Килда-роуд на полпути между Национальной Галереей и Часовней Поминовения. Самый широкий проспект Мельбурна уже заполняется народом. Он закрыт для движения за исключением древних, еще деревянных трамваев, которые со скрипом и шипением, то и дело звеня, пытаются пробиться сквозь толпу. Вокруг топчутся дети, лиц которых почти не видно за облаками розовой и голубой сладкой ваты. Над ними колышутся серебряные воздушные шарики, напоминающие пузыри, на которых в комиксах пишут мысли героев. Судя по этим пузырям, дети думают только о коте по кличке Гарфилд или о птичке Твити.
Я приехал немного раньше. Поэтому иду прогуляться к Национальной Галерее. Пруд здесь покрыт пятнами теней от деревьев, и от его фонтанов в толпу летят заряды влажного, с привкусом ржавчины воздуха. Посередине пруда стоит здоровенная трехногая тварь с головами на обоих концах, и из ее мозаичной шкуры там и здесь проглядывают глаза и морды. С обеих сторон от огромного плачущего глаза, который служит входом в галерею, висят транспаранты с объявлениями о предстоящих выставках, спонсируемых «Ле Меридьен», «Алиталией» и «Картье». Они трепещутся на северном ветру, колотясь о синюю облицовку фасада. Вдоль всего проспекта выстроились у обочины фургончики с мороженым, на боках которых словно рукой четырехлетнего ребенка намалеваны рожки эскимо и диснеевские персонажи. Из их громкоговорителей льются тренькающие, завлекающие детей мотивчики — точь-в-точь как в годы моего детства.
Я иду дальше. Между галереей и Центром Искусств стоит скульптура Виллема де Коонинга, бесформенная бронзовая штуковина размером с машину, больше всего напоминающая кратер горы Маунт-Сент-Хеленс, плюющийся в американцев раскаленной лавой. Перед ней с важным видом стоит, широко расставив ноги, человек с седым ежиком на голове. Обращаясь вроде бы к своей дочери, он на самом деле вещает целой толпе:
— Нет, правда. Думаешь, кто-нибудь ушел от этой штуки умнее, счастливее или несчастливее, чем был до прихода сюда? Попробуй кто из моих учеников явиться ко мне с таким, я дам ему миллион баксов на бронзу и выгоню вон — пусть попробует еще раз…
— Но, па-апа, — возражает дочь лет двадцати, — это же де Коонинг, деее… Коонинг, — и мотает головкой с капризно поджатыми губами в сторону толпы, словно извиняясь, что не знает, как поступать со старыми пердунами вроде этого. Лично я считаю, нужно поощрять их выступать и дальше — как знать, может, из них получатся первоклассные критики.
Напротив, через дорогу, в парке Королевы Виктории, стоит статуя метателя молота в момент броска, балансирующего на одной ноге, задрав лицо к небу и откинув назад мускулистое тело, чтобы справиться с центробежной силой молота, который у него украли. Этот молот всегда крадут. Без этого спортивного снаряда поза его кажется совершенно лишенной равновесия. Пустые глазницы смотрят в небо, словно спрашивая у Господа: что делать человеку, чтобы отвадить вандалов от краж его орудия труда? Чтобы стоять устойчиво?
За статуей, в густой тени платанов прячется длинный пруд с берегами, заросшими мохом, весь покрытый зеленой ряской. Полоска воды вымощена миллионами долек нефритовой мозаики, на которой ветер рисует извивающиеся полосы и завихрения, отчего пруд похож на зеленую мраморную плиту. Три лишенных тела крысиных головы плавают по этой мраморной поверхности у дальнего замшелого берега. Кажется, будто они приводятся в движение исключительно благодаря шмыганию носами и загребанию усиками, скользя по этому лишенному трения зеленому камню. Крысы среди бела дня. Вольготно плавающие в самом центре города, в разгар подготовки к празднованию Дня Австралии.
Я наблюдаю за плавающими по кругу крысами, пока не замечаю, что люди начинают оглядываться в сторону городского центра, и выхожу на угол Сент-Килда-роуд. Оттуда, со стороны изваянных из светлого песчаника шпилей собора Св. Павла, со стороны серых небоскребов, зеркальные окна которых окрашены белым и голубым, отражая в себе небо и облака, со стороны далеких надписей «САМСУНГ» и «ХИТАЧИ» к нам приближается праздничный парад. Все ближе, по мосту на нас надвигаются звуки, и краски, и свет, задуманные как квинтэссенция всех нас.
Мы стоим на тротуаре в тени платанов, фиг и эвкалиптов и смотрим на праздничное шествие, движущееся по осевой линии Сент-Килда-роуд. По мере его приближения толпа стихает. Возглавляет процессию оркестр аборигенов в ярко-красных набедренных повязках на платформе здорового «Кенворта». Их черная кожа покрыта белыми пятнами — отпечатками рук. Они колотят в сигнальные барабаны, и дудят в трубы, и бренчат на гитарах, и пытаются сплясать на одной ноге, изображая болотных птиц, — безуспешно, потому что водитель грузовика то тормозит, то дергает машину вперед, повинуясь командам копов и добровольных регулировщиков в флюоресцирующих жилетах. Зрители добродушно смеются и улюлюкают, глядя, как туземные исполнители то и дело валятся на копны сена или цепляются за стоящие в кузове звуковые колонки «Маршалл», а их хореография нарушается стараниями нервного водителя.
За ними едет верхом группа… не знаю кого. Арабов? Мужчин с маленькими зеркальцами, пришитыми на развевающихся белых одеяниях. Они размахивают саблями и заставляют своих скакунов идти боком, подавая им команды коленями и касаниями шпор.
Потом идет китайская диаспора. Устрашающего вида стометровый дракон с чешуей красного, оранжевого и золотого цвета делает вид, что вот-вот проглотит кого-нибудь из толпы, и родителям приходится поднимать детей на руки, чтобы тем было лучше видно и не было страшно. Вокруг дракона пляшут китайцы в расшитых шелковых костюмах; они бьют в барабаны и пускают шутихи.
За китайцами чеканит шаг полицейский оркестр штата Виктория. Трубы, флейты, французский рожок, кларнеты, геликоны и тромбоны. Пышногрудая тетка с улыбкой до ушей бьет в барабан. Оглушительный Суза-марш выплескивается в небо сверкающей медью, надутыми щеками и выпученными глазами. Толпа притихает от этого великолепия. Ноты вылетают из труб то стаями, то героическими одиночками, словно в великолепном рассказе про войну. Эти люди рождают звуки, чтобы тебе хотелось самому ринуться вперед, на вражеские штыки. Должно быть, они репетировали до седьмого пота, забросив к чертовой матери свои непосредственные полицейские дела. То-то было раздолье преступникам, пока они репетировали музыку, способную убедить тебя умереть молодым. Полиция может гордиться этими людьми и их умению обращаться с медью. Из них вышел красивый и чертовски убедительный инструмент.
За оркестром следует группа из пятидесяти-шестидесяти… Армян? Турок? Греков? Мужчин в похожих на феску головных уборах, в живописных жилетах поверх свободных белых рубах, вышитых шелковых штанах, в белых чулках и шелковых туфлях с загнутыми вверх острыми носами. Вид у них почти пристыженный от необходимости идти прямо за этим замечательным звуком, не предлагая нам ничего, кроме своего присутствия, своих вышитых костюмов, своих сконфуженных улыбок и неуверенных взмахов руками. Один из них то и дело складывает руки рупором и кричит в толпу: «Ар… Ло, Реата. Моя бузуки! Моя бузуки!» И шарит взглядом по толпе. По толпе, собравшейся на левой половине улицы, потом по толпе, собравшейся на правой половине. «Ар… Ло, Реата. Моя бузуки! Моя бузуки!» — настаивает он. Кого-то он там ищет. Жену? Подругу? Дочь? Мать? Кого-то, у кого находится его базука, его музыкальный инструмент. И он хочет, чтобы ему вынесли этот его инструмент, тогда-то он покажет этой толпе, что может армянин, или турок, или грек сотворить своей музыкой. Он хочет, чтобы ему вынесли этот инструмент из кости, или со струнами из жил, и тогда он исполнит исполненную мудрости кантату, которую его народ сочинил, дабы передать с ее помощью любовь и сказания, которые не передать словами. «Ар… Ло, Реата. Моя бузуки! Моя бузуки!» Крик удаляется по улице и стихает.