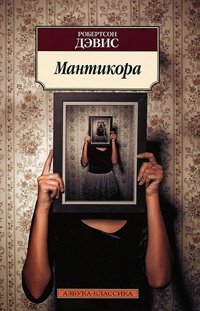Книга Лира Орфея - Робертсон Дэвис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Артур и Мария слушали почти в полном молчании, только Артур время от времени присвистывал. Пора было переходить к главному.
— Вы понимаете, что это значит для моей книги. Это — ее оправдание. Кульминация. У нас есть доказательства, что Фрэнсис — великий художник. Работавший в манере далекого прошлого, но тем не менее великий.
— Но работавший в манере далекого прошлого, — сказал Артур. — Может, он и великий художник, но это значит, что он — автор фальшивки.
— Вовсе нет! У нас нет ни грамма доказательств, что Фрэнсис собирался кого бы то ни было обмануть. Он не выставлял эту картину на продажу. Если бы не война, он бы, несомненно, забрал ее с собой, покидая Дюстерштейн, и меня никто не убедит, что он собирался продать ее как картину шестнадцатого века. Княгиня об этом знает. Картина лежала в чулане в замке, а когда замок был захвачен во время оккупации Германии, пропала вместе с уймой других картин. После войны комиссия, которая занималась возвращением пропавших произведений искусства, вернула ее в Дюстерштейн. Фрэнсис был членом этой комиссии. Тут может быть что-то нечисто, но мы не знаем подробностей. И до сих пор картина хранится в семье, то есть у княгини Амалии.
— Это не отвечает на мой вопрос, — заметил Артур. — Почему он писал в манере шестнадцатого века? И еще, посмотри на эту статью в «Аполло», с объяснениями. Если Фрэнсис никого не хотел обмануть, зачем он написал картину именно так?
— Тут мы подходим к моменту, судьбоносному для моей книги, — сказал Даркур. — Ты почти не помнишь Фрэнсиса. А я его очень хорошо помню. Я не встречал человека, сильнее обращенного внутрь себя. Он прокручивал мысль в голове, пока не приходил к заключению. Эта картина — самое важное из его заключений. Она показывает то, что он считал самым важным в своей жизни, — влияния, супротивные течения, в общем — гобелен, как сказал бы Эл Кран, будь у него шанс. Написав эту картину, Фрэнсис построил свою душу — так же верно, как какой-нибудь медитирующий отшельник или монах-затворник. То, что вы видите на картине, — это весь Фрэнсис, во всей полноте, как он сам себя видел.
— Да, но зачем подражать стилю шестнадцатого века?
— Потому что это последний период, когда художник мог сделать то, что хотел сделать Фрэнсис. Вы знаете хоть одну картину, написанную после эпохи Возрождения, которая открывала бы все, что автор о себе знает? Есть, конечно, великие автопортреты. Но даже Рембрандт, рисуя себя в старости, мог показать только, что сделала с ним жизнь, но не то, как она это сделала. В эпоху Возрождения живопись изменилась — отбросила все аллегорическое, метафизическое, весь язык символов. Вы, наверно, не знаете, что Фрэнсис был знатоком иконографии — это метод, позволяющий понять, что хотел сказать художник, а не только увидеть то, что видно всякому. В «Браке в Кане» Фрэнсис хотел поведать собственную истину, и как можно яснее. Причем не кому-либо другому, а самому себе. Эта картина — исповедь, подведение итогов, обращенное к себе самому. Она — шедевр в нескольких смыслах сразу.
— А кто этот странный ангел? — спросила Мария. — Ты всех персонажей опознал, а его пропустил. По-моему, ясно, что он чрезвычайно важен.
— Я практически уверен, что это старший брат Фрэнсиса. Из набросков, изображающих его, подписан только один, и подпись гласит: «Фрэнсис Первый». Можно только догадываться, что он оказал огромное влияние на всю жизнь Фрэнсиса Второго.
— Как это? Он выглядит идиотом, — заметил Артур.
— По-видимому, он и был идиотом. Ты не знал своего дядю. Он был глубоко сострадателен. О да, его считали мизантропом, и он терпеть не мог глупцов, а порой казалось, что он вообще людей не переносит. Но я его знал — он был невероятно добрым человеком. Надо сказать, что сплошь и рядом, говоря «добрый человек», имеют в виду «слюнявый сентиментальный дурак». Фрэнсис же как никто сознавал глубочайшую трагедию хрупкости человеческой жизни. И я совершенно уверен, что причиной тому именно присутствие в его жизни этого уродливого существа, пародии на самого Фрэнсиса. В юности он был романтиком — посмотрите, как он изображал девушку, свою будущую жену, что нанесла ему такую рану. Посмотрите на карлика: Фрэнсис знал этого беднягу и живым и мертвым и сделал что мог, чтобы своей кистью уравновесить весы Судьбы. Все портреты на картине — это суждения о людях, которых знал Фрэнсис, причем суждения человека, которого грубым пинком вышвырнули из юношеского романтизма в глубоко сострадательный реализм. Артур, я тебя умоляю, не спрашивай меня больше, почему он нарисовал это резюме своей жизни в стиле ушедшей эпохи. Старые мастера были глубоко верующими людьми, и это — картина глубоко верующего человека.
— Мне никогда и словом не намекали, что дядя Фрэнк был верующим.
— Это слово в нашу суетливую эпоху обрело совсем другой смысл, — пояснил Даркур. — Но постольку, поскольку оно означает поиски знания, желание жить не на поверхности, жажду осознавать реальность, которая кроется в глубине, — я даю тебе слово, Фрэнсис был истинно верующим.
— Дядя Фрэнк — великий художник! — произнес Артур. — В голове не укладывается.
— Но это же замечательно! — воскликнула Мария. — Гений в нашей семье! Артур, разве ты не рад?
— У нас в семье было немало способных людей, но их гений — во всяком случае, талант — проявлялся в финансах. И если кто-нибудь скажет, что финансовый гений — это лишь низкая хитрость и жадность, не верь. Это — интуиция, подлинный дар. Но гений такого рода, как дядя Фрэнк… для семьи финансистов это настоящий скелет в шкафу.
— Судя по всему, скелету в шкафу не нравится, — заметил Даркур. — Фрэнсис Корниш громко требует, чтобы его выпустили.
— Тебе еще придется говорить с этими людьми в Нью-Йорке. Как они отнесутся к твоему открытию? Драгоценный шедевр старинной живописи, единственный известный труд Алхимического Мастера, вдруг оказался фальшивкой.
— Артур, это не фальшивка, — вмешалась Мария. — Симон только что объяснил нам, что такое эта картина, и она ни в коем случае не фальшивка. Это — поразительная личная исповедь в форме картины.
— Артур в чем-то прав, — заметил Даркур. — К князю и княгине нужно подходить очень осторожно. Я не могу вдруг свалиться им на голову и заявить: «Слушайте, у меня для вас новость». Они должны сами захотеть, чтобы я приехал. Они должны захотеть узнать то, что я им расскажу. Разница как между «Джек приехал!» и «Джек приехал…».
— Снова народная мудрость обитателей Онтарио? — спросила Мария.
— Да, и притом очень мудрая, если вдуматься. Я не могу просто вывалить на них свое открытие и на том остановиться. Я должен намекнуть, к чему может привести это открытие.
— И к чему же?
— Ну, во всяком случае, не к тому, чтобы объявить картину ничего не стоящей и лишить ее права называться произведением искусства. Я должен показать им новый путь.
— Симон, я тебя знаю. Я по глазам вижу — у тебя что-то припрятано в рукаве. У тебя есть план. Ну же, расскажи.
— Нет, я бы не сказал, что это план. Так, неоформленная идея. Настолько дурацкая, что мне даже неудобно о ней говорить.