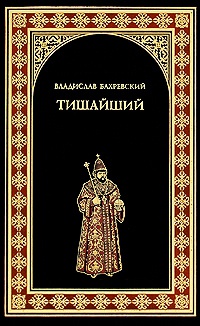Книга Аввакум - Владислав Бахревский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– «Буди имя Господне».
Никон, огромный, глядя черно перед собой, ледяным словом будто в погреб всех посадил:
– Ленив я был вас учить. От лени окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени я вам больше не патриарх. Если же помыслю быть патриархом, то буду анафема.
Задохнулся от горчайшей обиды.
Люди от изумления уж и не примолкли, затаились умом и сердцем, чтоб толчками крови по жилам не дать свершиться несуразному.
– В чуму, когда ходил я с царевичем и с царицей в Колязин монастырь, ты, Москва, на Лобное место сбиралась, кляла меня иконоборцем. Я и впрямь многие иконы отбирал, ломал, и вы меня – многие, многие из вас! – жаждали убить. Эх, неразумные! Я ломал иконы латинские, написанные по образцу, какие немец вывез из своей земли. Вот Спас, вот образец, ему поклоняйтесь, – указал на иконостас, перекрестился. – Знаю, вы меня по углам еретиком зовете. Книги новые-де завел! Но то не моя прихоть, то поучение вселенских патриархов. Вы же, в окаменелости сердец ваших, хотели и хотите побить меня камнями. Христос нас кровью своей искупил, а мне моей кровью никого от греха не избавить. И чем вам убийцами моими стать, чем вам сушить языки свои, называя меня еретиком, лучше я пойду прочь с патриаршества.
Снял митру, омофор, положил на налой, скинул саккос – и тоже на налой. Раздался женский тихий, оттого и пробирающий за душу плач:
– Владыко! Батюшко наш великий! На кого же ты нас?.. На кого?
Никон вспыхнул, как пыхает пожар, окаченный водою.
– Свидетельствую перед Богом! Перед святой Богородицей свидетельствую – если бы великий государь царь не обещался непреложно хранить святое Евангелие и заповеди святых апостол и святых отец, то я и не помыслил бы принять таковой сан! Но великий государь здесь, в храме, тут вот, с этого места, дал обещание перед Господом Богом, перед святым чудотворным образом Пресвятыя Богородицы, перед всеми святыми, перед всем освященным собором, перед своим царским синклитом, перед всеми московскими людьми, перед Русью от края и до края! – Выкрикнул все это на высокой, на звенящей, на пронзительной ноте, а закончил еле слышно, заставляя умереть прихожан от тишины: – Поколику царское величество пребывал в своем обещании, повинуясь святой церкви, мы терпели. Теперь же, когда великий государь изменил своему обещанию, гнев на меня положил неправедно, оставляю место сие, град сей и отхожу отсюда, дая место гневу.
Поцеловал краешек омофора, брошенного на налой, поворотился и в одном стихаре, сгорбясь, шаркая ногами, пошел в алтарь, окликнув по дороге келейника Иову:
– Рясу да палку принес?
– Забыл, владыко!
– Бегом беги. Я в алтаре подожду.
Патриарший дьяк Киликин упал святейшему в ноги:
– Не отрекайся, Бога ради, от сана. Не тишину дашь народу, но смятение. О нас, бедных, подумай.
– Я о вас думаю, но кто подумал обо мне? – сказал Никон, разоблачаясь и ожидая монашеского одеяния.
Двери были отперты, но люди по домам не пошли, сбивались кучками, слушали умных.
– Обидели святейшего! Все мы грешны. Все злословили, а как без него будем? Никон – воистину пастырь и патриарх.
Прибежал Иова с черной рясой и с палкой. Иову остановили, рясу у него отобрали.
– Не пустим патриарха с патриаршества.
Никон покорился, не стал требовать рясы. Надел черную архиерейскую мантию с источниками, простой черный клобук, поставил посох митрополита Петра и взял у Иовы клюку. Помедлил, растерянно и детски поглядев на попов и дьяконов. Спохватился, сел писать еще одно письмо, не дописал, порвал.
– Да Бог с вами со всеми! Иду!
Постукивая клюкой, кланяясь направо и налево, засеменил к выходу.
– Не пускайте! Держите!
– Двери держите!
Толпа встала перед патриархом стеной, и он тыркался, будто слепец, в людей и все кланялся, кланялся.
– Крутицкого Питирима пустим! – согласилась толпа. – Пусть идет к государю, скажет, что у нас тут делается.
– Михаил сербский тоже пусть идет!
Оба митрополита отправились в царев Терем, а Никон стоял перед людьми, смиренно ожидая, когда загородившие путь расступятся. К нему подошел Никита Зюзин:
– Опусти перышки-то, владыко! Не гневи царя. Захочешь вернуться, да поздно будет.
Никон, чтобы не слушать ни укоров, ни уговоров, вернулся вовнутрь храма, сел на ступеньку амвона. Митрополиты не возвращались, и Никон поднимался, шел к дверям и, постояв перед людьми, снова садился на ступеньку. Народ заплакал, и Никон заплакал, и, чтоб не видели его слез, ушел в алтарь, и написал еще одно письмо:
«Отхожу ради твоего гнева, исполняя писанье: дадите место гневу и паки: егда изженут вас от сего града, бежите во ин град, и еже аще не приимут вас, грядущие отрясите прах от ног ваших».
Алексей Михайлович, выслушав Питирима и Михаила, изумился:
– Точно сплю с открытыми глазами и все это вижу во сне.
О соколах было забыто. Чтоб патриарх да с патриаршества убежал после царского неудовольствия? Хуже бунта.
Вместе с митрополитами поспешил в Думу и несказанно обрадовался князю Трубецкому:
– Алексей Никитич, слава Богу, что ты здесь. Нимало не медля, возьми с собой вот хоть Родиона Стрешнева и ступайте к Никону в Успенский собор. Скажите святейшему, что я ему рад, никакого гнева у меня на него нет и Бога ради патриаршества пусть не оставляет.
Боярин Алексей Никитич был среди боярства первый, молодой Стрешнев обходителен, умен, находчив, и ведь из Стрешневых.
Трубецкой, под облегченные вздохи людей войдя в храм, поклонился Никону, попросил благословить.
– Прошло мое благословение, – сказал Никон.
– Смилуйся, святейший.
– Не мне миловать милостивых. Не святейший я. Я есмь недостойный.
– Какое твое недостоинство? Что ты содеял? – удивился Трубецкой.
– Говорить долго, но если тебе надобно, то я хоть сейчас стану тебе каяться.
– Не кайся, не мое дело грехи отпускать. Скажи, владыко, для чего патриаршество оставляешь? От чьего гонения, кто тебя гонит? Не оставляй престола! Великий государь тебя жалует и рад тебе.
– Оставил я патриаршество собою, а не от какого гонения. Государева гнева на меня никакого не бывало. Да только я и прежде бил великому государю челом и извещал: больше трех лет на патриаршестве мне не быть. Согрешил, вдвое срок пересидел. – Поклонился Трубецкому. – Подай царскому величеству мое письмо, попроси, пусть пожалует мне келью.
Снова воцарилось ожидание, но теперь уже теплое. Предвкушали омоченную покаянными слезами встречу милого царя с великим пастырем, сами желали поплакать всласть.
И вот – двери распахнулись. И лицо Никона, вспыхнувшее счастьем, погасло… и навсегда. Не царь пришел в храм – бояре с тем же Трубецким.