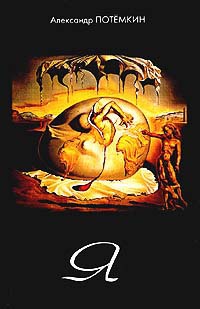Книга Старое вино "Легенды Архары". История славного города в рассказах о его жителях - Александр Лысков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Укатали сивку крутые горки. Ничего, на том свете отдохнем. По коням!
Гребком своей чаши-ладони он вынудил меня торопливо подняться и усадил в свою машину, повез на митинг, посвящённый закладке памятника погибшим в девяносто третьем году.
– Как поездка?
– Так себе.
– Когда к нотариусу пойдём машину на твоё имя оформлять?
– Да вроде нет такой проблемы уже, Андрей Андреевич.
– Что такое?
– Нет машины – нет проблемы.
– В аварию, что ли, попал? Разбил?
– Можно и так сказать…
– Аккуратнее надо. Восстанавливай. На ремонт подкину.
– Да ладно, Андрей Андреевич, я по природе – пешеход. Видимо, не суждено.
– Материал-то хоть взял?
– В общем, да.
– Слушай, а чего это от тебя так воняет?
– В дороге небольшая неприятность вышла…
Машина остановилась на Пресне, у вздыбленных навек казацких коней.
Бронзовая женщина на пьедестале, взбунтовавшиеся рабочие начала века измельчались и разживлялись вокруг постамента до тёток и дядек конца этого самого века.
Среди красных флагов мерцала пурпуром хоругвь с ликом Христа.
Концентрические круги от глаз Спаса пульсирующе расширялись, разбегались по толпе. Чёрные зрачки Христа с высоты прожигали, вперялись в меня, желанно мучили любовью. Иисус на хоругви, с длинными завивающимися волосами, по плечи реял над всеми несчастными.
Тут были: скандальная дворовая старуха; жестянщик с допотопного заводика; семейная диктаторша, брошенная мужем бой-баба; разных видов русские правдолюбцы – блаженный Алёша из прихода церкви Святого Николая, горлохват из строительной бригады, доморощенный философ. Тискались, тусовались тут поэт-графоман, опять же, неустроенная баба средних лет, фронтовик с чешуёй медалей на пиджаке, торговец патриотическими газетами. Были молоденькие некрасивые девушки, какие-то парни в «коже» с заклёпками, пришедшие «оттянуть левых». Ряженый казак с нагайкой за голенищем. Смущённый молодой парень в чёрной рубашке с портупеей. Мелькнул председатель карликовой партии – слюнявый бешеный антисемит. Изумлённый провинциал – гость столицы. Переодетый оперативник. Исполненный презрения к своему происхождению старый советский еврей. Любительница хорового пения с текстильного комбината…
Лица были все разные, но, опять же, как под стенами Останкино подплавленные единым внутренним жаром, слегка обобщённые, с одинаковым блеском в глазах.
Варламов двигался в этой целительной для него грязевой ванне толпы, купался в восхищённых взглядах своей публики. Лёгкой, невесомой была его одухотворённая крупная плоть. Он будто втягивал носом воздух, выискивал над головами людей какой-то особый запах, всматривался в смысл многолюдья.
Тёплый летний ветерок колыхал длинные жёсткие пряди его волос – голова пророка и воителя плыла в ряби тысячи голов. Шёл вождь – человек, понятный для меня как новейший русский князь, и я, забыв обо всём, потеряв из виду лик Спасителя на хоругви, тоже привстал на цыпочки, чтобы, как все, разглядеть героя, увидеть в нём тот особый свет помазанничества, который сворачивался в Варламове кабинетном, редакционном и всегда вспыхивал ярко на людях. Заземлил порыв ударом костлявого локтя в бок Карманов с банкой пива в руке и с запахом ста пятидесяти граммов водки, выпитой только что в ларьке.
– Смотри, «дядя»! Смотри и запоминай! Сашке своему потом будешь рассказывать: я видел последнего солдата империи!
– Он, скорее, полковник, – сказал я.
– А чего, тянет вполне на три «звезды». Мундир бы ему пошёл.
– Сто полковников в штабе сидят, – сто покойников в поле лежат…
– Чего вдруг раскис, «дядя»? Где твой воинственный патриотизм?
– Я, кажется, гуманистом становлюсь, «племянничек».
– Так ты скоро и флейтистом заделаешься. А надо вот на какой дудке играть, «дядя».
И под пиджаком Карманов показал мне засунутый за пояс газовый пистолет-пугач, переходящий в редакции из рук в руки молодняка.
– Хорошо убить врага на рассвете! – корча из себя ковбоя, продекламировал Карманов.
Я бросился вон из толпы – опять подступила тошнота. Я злобно растолкал людей, ненавидя их и презирая; вырвался с площади на тротуар.
Карманов кричал вслед, обещал угостить вином.
Тем временем толпа, сорванная с места силой неспешного шага Варламова, повалила под гору, к зоопарку.
Я застегнул штормовку. Меня знобило. Холодели руки. Я шёл, глядя под ноги на кроссовки в красноватой тульской пыли.
Чувствовал, как при каждом шаге у меня подрагивали и брюзгли щёки и сухой горячий язык скоблил нёбо.
Теперь, со стороны, толпа, на которую я поглядывал искоса, пугала меня.
Лица, только что источавшие ласку, мертвенно застыли, а глаза с братскими слезами превратились в порожние глазницы, белели вывернутыми белками, как у слепцов, сверкали влажными хрусталиками.
Зато очи нарисованного Спаса, наоборот, стали мучить меня ещё сильнее, будто они вобрали в себя пропавшую в глазах людей доброту, и прожигали меня насквозь.
Милиция остановила демонстрантов на перекрёстке. В ожидании дальнейшего движения я присел на цоколь Краснопресненского универмага.
Отсюда, с небольшого возвышения, хорошо был виден первый ряд сцепившихся локтями вожаков. В центре – гордый, отчаянный Варламов.
Цепочка милиции расступилась, люди устрашающе радостно двинулись по своей надобности, а я остался сидеть на тёплом железе, привалившись плечом к телефонной будке.
Я утомился, и мне было хорошо, как начинающему бродяге, дремать на пригреве и ничего не желать.
Я чувствовал, как горе выдавливало меня на свободу, вышибало из прежней жизни в неизвестность.
Спустя некоторое время я всё-таки поднялся и добрёл до Белого дома.
Митинг уже начался.
Под старой липой Варламов говорил в микрофон, глотая слова, так энергично и образно, что было не всегда понятно.
Тончайший эстет-экстрасенс открывался в нём в такие минуты, художник-перформансист, из самой жизни лепивший образы. Никакой режиссёр, даже с помощью ста самых лучших актёров, не смог бы сделать с людьми то, что делал Варламов с толпой.
Стоя в поле облучения варламовского гения, постаревший и бледный, я чувствовал, как горячим яростным огнём мести сейчас Варламов окончательно сожжёт оставшиеся крохи моей природной сущности, а из праха вылепит другого человека.
Я отупел от жимков ваятеля. Захлопнулась болящая душа, самоспасаясь.
Я выбрался из толпы. С Пресни, вися на засаленных поручнях метро, кое-как доехал до «Ботанического сада».
Сразу из павильона грудью пошёл на деревья, на клумбу, почти побежал по траве, будто опять по требованию желудка, – прямиком к золотому шишаку над липами, к пенопластово-белым стенам церкви Ризоположения. Слепящий жар отражался от белёных стен храма. За распахнутыми дубовыми дверями в темноте трепетали огоньки свечей. Нищие сидели в тени на лавочке.