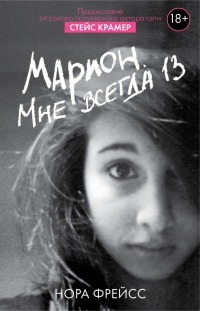Книга Я исповедуюсь - Жауме Кабре
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Потом зайдите ко мне в кабинет, – тихо сказал он мне по-румынски. И продолжил вести занятие как ни в чем не бывало.
Трудно поверить, но когда Адриа Ардевол входил в кабинет Косериу, у него не дрожали колени. За неделю до этого он расстался с Августой, преемницей Корнелии, которая не предоставила ему возможности разорвать отношения самому, потому что без всяких объяснений бросила его ради нового эксперимента два десять ростом – баскетболиста, только что залученного известным штутгартским клубом. Отношения с Августой были размеренными и спокойными, но Адриа решил отдалиться от нее после пары ссор из-за глупостей. Stupiditates[223]. И сейчас он был не в духе, а мысль о страхе перед Косериу была так унизительна, что одного этого хватало для того, чтобы не чувствовать страха.
– Садитесь.
Диалог вышел любопытный, потому что Косериу говорил по-румынски, а Ардевол отвечал по-каталански: оба следовали курсу взаимной провокации, взятому уже на третий день занятий, когда Косериу сказал: в чем дело? почему никто ничего не спрашивает? – и Ардевол задал свой первый вопрос, трепетавший у него на языке, о языковой имманентности, и все оставшееся занятие было ответом на вопрос Ардевола в десятикратной мере – я храню этот ответ в сердце как сокровище, потому что это был щедрый подарок гениального, но невыносимого ученого.
Диалог вышел любопытный, потому что, говоря каждый на своем языке, они прекрасно понимали друг друга. Диалог вышел любопытный, потому что они знали, что оба видят читаемый курс как этакую «Тайную вечерю» в Санта-Марии делле Грацие[224], Иисус и двенадцать апостолов – все обращены в слух и ловят каждое слово и малейший жест Учителя, кроме Иуды, от всех отстраненного.
– И кто же Иуда?
– Вы, разумеется. Что вы изучаете?
– По меню: история, философия, кое-что из филологии, лингвистики, что-то из богословия, греческий, иврит… В общем, все время ношусь между Брехтбау и Бурзе.
Пауза. Наконец Адриа признался: я очень… очень недоволен, потому что хотел бы изучать все.
– Все?
– Все.
– Н-да. Мне кажется, я вас понимаю. Как обстоят ваши дела в академическом плане?
– Если все будет хорошо, я защищаю диссертацию в сентябре.
– О чем вы пишете?
– О Вико.
– Вико?
– Вико.
– Это хорошо.
– Ну… мне… Все время хочется что-то добавить, подредактировать… Я никак не могу завершить.
– Когда вам назначат дату представления работы, сразу сможете.
Он поднял руку, как всегда, когда собирался сказать что-то важное:
– Мне нравится, что вы решили стряхнуть пыль с Вико. А потом принимайтесь за новые работы, послушайтесь моего совета.
– Если смогу еще на какое-то время остаться в Тюбингене, я так и поступлю.
Но я не смог остаться в Тюбингене еще на какое-то время, потому что на квартире меня ждала телеграмма от Лолы Маленькой, которая словно дрожащим голосом сообщала мне: деточка, Адриа, сынок тчк Твоя мама умерла тчк. И я не заплакал. Я представил себе жизнь без матери и понял, что она ничуть не будет отличаться от той жизни, что я вел до сих пор, и ответил: не плачь, Лола Маленькая, не плачь тчк Как это случилось? Она же не болела?
Мне было немножко стыдно спрашивать такие вещи о матери: я уже несколько месяцев ничего о ней не знал. Изредка телефонный звонок и короткий сухой разговор – как ты, как дела, ты слишком много работаешь, ну ладно, береги себя. Что такого в этом магазине, что он высасывает все мысли тех, кто им занимается?
Нет, она болела, сынок, уже несколько недель, но запретила нам говорить тебе об этом, только если вдруг ей станет хуже, тогда… И мы не успели, потому что все случилось слишком быстро. Она была так молода. Да, она умерла прямо сегодня утром, приезжай скорее, ради бога, сынок, Адриа тчк.
Я пропустил два занятия Косериу, чтобы присутствовать на похоронах; ее отпевали – по личному желанию покойной; рядом со мной стояли постаревшая и погрузившаяся в скорбь тетя Лео, Щеви и Кико с женами и Роза, которая сказала, что ее муж не смог приехать, потому что… Я тебя умоляю, Роза, не извиняйся, ну что ты. Сесилия, элегантная, как всегда, потрепала меня по щеке, как будто бы мне было восемь лет и у меня в кармане лежал шериф Карсон. У сеньора Беренгера блестели глаза – я подумал сначала, что от печали и растерянности, но потом узнал, что от переполнявшей его радости. Я подал руку Лоле Маленькой, стоявшей в глубине с какими-то незнакомыми мне женщинами, и отвел ее на скамейку для членов семьи – и тут она разрыдалась, и вот тогда я почувствовал горе. Было много незнакомых людей, очень много. Меня даже удивило, что у матери был такой круг общения. Моя литания была – мама, ты умерла, не сказав, почему вы с отцом были так далеки от меня; ты умерла, не сказав, почему вы были так далеки друг от друга; ты умерла, не сказав, почему ты так и не предприняла серьезных попыток расследовать смерть отца; ты умерла, не сказав, мама, почему ты так меня и не полюбила. Эти мысли носились у меня в голове, потому что я еще не читал ее завещания.
Адриа не был дома уже несколько месяцев. Сейчас квартира казалась ему тихой, как никогда. Мне непросто было войти в родительскую спальню. Как всегда, полумрак; на кровати лежал голый матрас, без белья; шкаф, комод, зеркало – все было совершенно такое же, как всю мою жизнь, но без отца с его плохим настроением и матери с ее молчанием.
Лола Маленькая, еще не переодевшись с похорон, сидела на кухне за столом и смотрела в пустоту. Адриа не стал ничего спрашивать, он пошарил по кухонным шкафам и нашел все, что нужно для чая. Лола Маленькая была так разбита горем, что не встала и не сказала: оставь, деточка, чего тебе хочется, я приготовлю. Нет, Лола Маленькая смотрела в стену и сквозь нее – в бесконечность.
– Выпей, станет легче.
Лола Маленькая машинально вязла чашку и отхлебнула. Мне кажется, она не понимала, что делает. Я молча вышел из кухни, проникшись горем Лолы Маленькой, которое словно заняло во мне место отсутствовавшего собственного горя по смерти матери. Адриа было грустно, да, но его не разъедала боль, и он страдал от этого; как смерть отца только поселила в нем страхи и прежде всего чувство огромной вины, так и сейчас эта новая неожиданная смерть казалась ему чужой – как будто бы не имела к нему никакого отношения. В столовой он открыл балконные ставни и впустил в комнату дневной свет. Лучи падали на висящий над буфетом пейзаж кисти Уржеля[225]совершенно естественно, словно проникали сквозь раму картины. Колокольня монастыря Санта-Мария де Жерри сияла в лучах красноватого закатного солнца. Трехъярусная колокольня, колокольня с пятью колоколами, на которую он смотрел бесконечное количество раз и которая помогала ему мечтать длинными и скучными воскресными вечерами. На самой середине моста он остановился в восхищении. Он никогда не видел такой колокольни и теперь наконец понял весь смысл рассказов о недавнем могуществе и основанном на торговле солью богатстве монастыря, в который направлялся. Чтобы вволю полюбоваться монастырем, он откинул капюшон, и те же закатные лучи, что освещали колокольню, упали на его высокий и ясный лоб. В этот закатный час, когда солнце прячется за холмы Треспуя, монахи, должно быть, подкрепляют свои силы вечерней трапезой, подумал он.