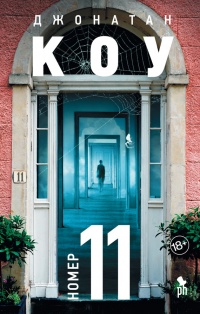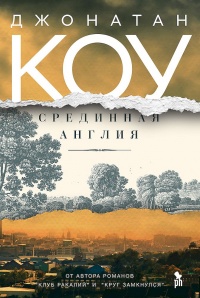Книга Какое надувательство! - Джонатан Коу
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хотя родители жили на окраине Бирмингема, вся жизнь их вращалась вокруг мирного, довольно симпатичного ярмарочного городка в шести-семи милях от дома. Там находилась единственная маленькая больница, куда и поместили отца: посетители допускались с двух до половины четвертого днем и с половины седьмого до восьми вечером. Это значило, что часы между нашими визитами оказывались самыми напряженными и проблематичными за весь день. Мы выходили из больницы на автостоянку для посетителей, под яркое солнце, и мама, полностью утратившая способность (хотя за последние четверть века та ее ни разу не подводила) планировать поход в магазин больше чем за несколько часов, везла меня в местный супермаркет купить какой-нибудь замороженной еды на ужин. Пока она выбирала и расплачивалась, я вылезал из машины и бродил по совершенно пустынной Хай-стрит — в действительности единственной торговой улице городка, — озадаченно размышляя, что некогда я и представить себе не мог более скученной и оживленной метрополии. Я заглядывал в местное отделение „Вулворта“, где раньше тратил все свои долго копимые карманные сбережения на уцененные пластинки; в газетный киоск, где продавалась — хотя никаких намерений покупать у меня не было и в помине — ничтожная доля прессы, выходившей в Лондоне; в единственный городской книжный магазин, располагавшийся на тридцати квадратных футах и отнюдь не набитый томами, — много лет он казался мне просто Александрийской библиотекой наших дней. Именно здесь на исходе отрочества простаивал я целыми часами, разглядывая бумажные обложки новинок, пока Верити нетерпеливо била копытом снаружи. От одного вида этих книг меня переполняло изумление: казалось, они намекают на существование далекого мира, населенного прекрасными талантливыми людьми и целиком посвященного возвышенным идеалам литературы (разумеется, мира того же самого, что в один прекрасный день позволил мне вступить в себя шаткими ногами лишь для того, чтобы я понял: он также холоден и неприветлив, как бассейн, повергший меня в столь безутешные слезы в тот памятный день рождения).
Как бы то ни было, после наступал черед самой важной части ритуала. Мы с мамой возвращались домой, делали себе две чашки растворимого кофе, выкладывали на тарелку полезные для желудка бисквиты или печенье „Богатый чай“ и на полчаса устраивались перед телевизором — смотреть викторину: передачу потрясающего идиотизма и скукоты, за которой мы наблюдали с истовой сосредоточенностью, словно несколько пропущенных секунд лишали эксперимент всякого смысла.
В программе имелось два простых компонента: игра с числами, в которой участники должны были совершать в уме элементарные арифметические действия (эта часть удавалась мне довольно неплохо, а мама всякий раз путалась и не поспевала), и игра в слова, где участники соревновались, кто из девяти произвольно выбранных букв алфавита составит слово длиннее. К этой игре мама относилась гораздо серьезнее меня — перед началом всегда убеждалась, что у нее наготове бумага и карандаш, а иногда ей даже удавалось победить конкурсантов: я очень хорошо помню, как она вся разгорелась от восторга, когда из букв С, Б, Р, А, Г, Е, О, Д, Р составила слово из восьми букв „гардероб“, а участник викторины набрал всего пять очков словом „ребро“. После этого она несколько часов пребывала в эйфории: единственный раз за те несколько недель на ее лице разгладились морщины тревоги. И мне кажется, именно поэтому каждый день в половине пятого мы так усердно стремились к телевизору, а иногда, если экспедиции в супермаркет затягивались, гнали со скоростью пятьдесят — шестьдесят миль в час по пригородным улочкам, боясь опоздать к начальным титрам викторины, к дурацкому вступительному слову ведущего, пересыпанному кошмарными остротами и произносимому с заискивающими улыбочками щенка-переростка. Но мама смотрела телевизор каждый день, и глаза ее горели фанатизмом правоверного не только поэтому: она изо всех сил цеплялась за возможность, что придет время — и ей будет даровано видение, откровение Святого Грааля, которого жаждали все фанаты программы. Из выбранных наугад девяти букв сформируется идеальное слово, в котором будут они все. Она бы, наверное, стала самой счастливой женщиной на свете, пусть на несколько мгновений; а самая ирония — в том, что однажды такое произошло, но слово мама так и не распознала. Буквы были Ы, Н, Ь, Л, Е, Й, А, Т и Л — я увидел слово сразу, но ни один из участников его не разглядел, и мама тоже старалась изо всех сил, но в конце концов нашла только вялое пятибуквенное „налет“. По крайней мере, так она говорила, но лишь теперь я начал задаваться вопросом: быть может, и она увидела слово „летальный“, сложившееся из девяти случайных букв, — увидела, но не смогла заставить себя написать эту истину на обороте списка покупок того дня.
В любом случае у нас с Фионой занятия были гораздо серьезнее: трагические перемены, навязанные ее болезнью нашим зрительским привычкам, случайно совпали с периодом политических потрясений как в самой стране, так и на международной арене. В самом конце ноября, всего через несколько дней после ее второго визита к врачу, кризис в партии тори достиг пика, и миссис Тэтчер пришлось подать в отставку. То была неделя истеричного, хоть и преходящего возбуждения всех средств массовой информации, и мы до отвала насыщались непрерывным потоком новостей, спецвыпусков ночных ток-шоу и экстренных бюллетеней. А в тот день, когда Фиона отправилась на прием для амбулаторных больных, мы услышали, что Саддам Хусейн отклонил резолюцию Совета Безопасности № 678 — ультиматум, разрешавший использование „всех необходимых средств“, если Ирак не выведет свои войска из Кувейта к 15 января; а вскоре он сам выступил по французскому телевидению и сказал, что, по его мнению, вероятность вооруженного конфликта — 50/50; и хотя Саддам уже начал освобождать заложников, чтобы они поспели домой к Рождеству, оставалось ощущение, что политики и генералы полны решимости тянуть нас всех в войну. Однако странно, что Фиону — человека миролюбивого и не особо интересующегося политикой — все это как-то успокаивало. Я даже начал подозревать, что, как и моя мама со своей викториной, Фиона щитом телевидения отгораживается от страха, который иначе поглотил бы ее без остатка.
В этот раз врач выслушал ее внимательнее. Осмотрел шею, когда она рассказала о росте опухоли — та стала еще больше, почти два дюйма в поперечнике, — и все тщательно записал, но все равно ответил, что беспокоиться, вероятно, не о чем, лихорадка и ночная потливость могут вызываться чем-то иным, какой-нибудь агрессивной, но вполне излечимой инфекцией. Однако без необходимости рисковать не стоило, и в последнюю неделю ноября Фиона записалась на прием для амбулаторных больных. У нее взяли на анализ кровь, просветили рентгеном; через три недели следовало вернуться за результатами. Пока же предстояло отмечать на графике температуру, и наши совместные вечера с Фионой обычно заканчивались тем, что я приносил термометр и дотошно записывал нужную цифру, а потом гасил свет и возвращался к себе — с подносом и грязными тарелками или суповыми чашками.
Как я уже говорил, мы с Фионой в основном молчали: у нее от разговоров начинало жечь в горле, а я никогда не мог придумать, что сказать. Но один наш разговор я помню — он произошел в те мертвые полчаса между „Девятичасовыми новостями“ и „Новостями в десять“ и начался с ее неожиданного замечания.