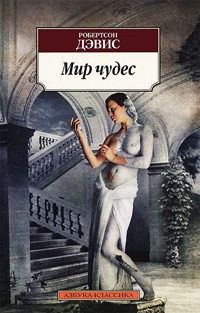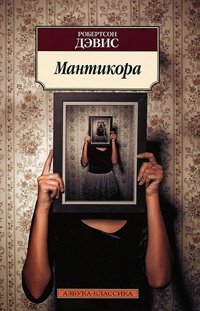Книга Что в костях заложено - Робертсон Дэвис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ну… один раз, в детстве, я послал деньги за составление гороскопа какой-то компании в Штатах, они рекламировали свои услуги в журнале для мальчиков. Это была жуткая чушь, напечатанная с ошибками на отвратительной бумаге. А в Оксфорде один тип, болгарин, очень хотел составить мой гороскоп, но мне было совершенно очевидно: воля звезд, которую он прочитал, совпадала с его собственным желанием, чтобы я вступил в какую-то ячейку недоделанных коммунистических шпионов, про которую он думал, что он ее возглавляет. Я уверен, ты скажешь, что мое знакомство с астрологией было несколько поверхностным.
— Да, хотя гороскоп болгарина — вполне обычное дело. Куча гороскопов составлялась и, конечно, до сих пор составляется с подобными целями. Но я составлю для тебя гороскоп, если хочешь. Настоящий, без всяких послаблений. Хочешь?
— Конечно. Разве можно отказаться от такого лестного предложения?
— Точно. Кстати, это еще один важный момент. Если для тебя составляют гороскоп, значит тобой по-настоящему интересуются, а это случается реже, чем обычно думают. Где и когда ты родился?
— Двенадцатого сентября тысяча девятьсот девятого года, насколько мне известно — в семь часов.
— А где?
— В городке под названием Блэрлогги, в Канаде.
— Какой-то дальний полустанок. Придется заглянуть в справочник, чтобы узнать точное положение. Ведь звезды в Блэрлогги не точно такие же, как в любом другом месте.
— Да, но, допустим, в Блэрлогги одновременно со мной родился бы еще кто-нибудь; разве его судьба не была бы идентична моей?
— Нет. А теперь я выпущу кота из мешка. Вот что отличает меня от мошенников из твоего детского журнала и от твоего коммуниста-афериста. Это — мое историческое открытие, которое настоящие астрологи берегли ценой своей жизни, и, если ты хоть полсловом обмолвишься о нем кому-нибудь до выхода моей книги, я тебя найду и очень затейливо убью. Когда тебя зачали?
— Боже, откуда мне знать? Но это было в Блэрлогги, я уверен.
— Обычный ответ. Родители ужасно жеманятся, когда дело доходит до разговоров с детьми на эту тему. Ну что ж, мне придется отсчитать назад приблизительный срок. Дальше, когда тебя крестили?
— О, это я могу сказать: примерно тремя неделями позже, точная дата — тридцатого сентября, около четырех часов пополудни. В англиканской церкви. И кстати, раз уж об этом зашла речь, много лет спустя меня крестили снова, на этот раз в католичество. Я наверняка вспомню дату, если постараюсь. Но какое это имеет значение?
— Дата зачатия важна, это совершенно очевидно. Ты вполне здоровый с виду, так что, я думаю, ты был доношенный. Значит, дату можно восстановить достаточно точно. День, когда человек входит на великую Сцену Жизни, конечно, важен, и только его принимают во внимание астрологи попроще. Но день, когда ты официально родился для жизни в Духе, как ее понимает твоя религиозная община, день, когда ты получил имя, — важен, потому что добавляет несколько штрихов к твоей карте. А двойное крещение! Это уже какое-то духовное щегольство. Принеси мне к завтраку все данные на бумажке, и я ими займусь. А теперь еще по рюмашечке коньячку, и разойдемся по своим непорочным постелькам.
Дни наедине с собой в ракушечном гроте и вечера в обществе Рут Нибсмит врачевали потрепанное самоуважение Фрэнсиса. Отъезд из Англии дался ему очень тяжело. Сперва пришлось объяснять родителям Исмэй, что случилось, а потом терпеть их очевидную, хоть и невысказанную, уверенность, что это он во всем виноват. Потом пришлось договариваться о малютке Чарлотте — малютке Чарли, как ее называли все, кроме Фрэнсиса, немного шепелявя на первом звуке: выходило что-то вроде «Шарли». Глассоны явно хотели контролировать судьбу девочки, но столь же явно не хотели с ней возиться. Они вполне логично заявили, что уже навоспитывались детей на своем веку. С какой стати им теперь вешать на себя младенца, который ежеминутно требует внимания? Они, что вполне естественно, беспокоились за Исмэй, которая болталась бог знает где, бог знает с кем, в стране, стоящей на пороге гражданской войны. Они признавали, что девчонка — дура, но это, по-видимому, никак не отменяло их уверенности, что во всем виноват Фрэнсис. Когда наконец Фрэнсис, доведенный до крайности, был вынужден сказать, что ребенок не его, тетя Пруденс рыдала, дядя Родерик ругался, но сочувствия к зятю у них не прибавилось. Рогоносцы всегда играют неблаговидную — и обычно комическую — роль.
Наконец Фрэнсису удалось договориться с Глассонами, и никогда в жизни он не чувствовал себя так ужасно. Кроме денег, которые он уже пообещал на поддержку имения, он согласился оплачивать все расходы на содержание малютки Чарли — существенные, потому что ребенку нужна была первоклассная няня и все остальное, а это должно было влететь в кругленькую сумму, так как Глассоны не собирались ни в чем урезать внучку. Сверх этого он должен был выплачивать четко определенную сумму с неопределенным назначением — на непредвиденные расходы. Вроде бы вполне разумно, но Фрэнсиса не покидало чувство, что им пользуются, а в минуту жизни, когда пошатнулись его честь и его любовь, атака на его банковский счет оказалась неожиданно сильным дополнительным потрясением. Конечно, в таком положении неблагородно так много думать о деньгах, но он о них думал. Что для него была малютка Чарли — то вопящий, то спящий слюнявый комок?
Неудивительно, что он ухватился за предложение дяди Джека — что-то сделать, куда-то поехать, выполнить важное задание. Но за согласие он расплатился тремя месяцами черной работы на Сарацини, который заставлял его орудовать пестом и ступкой, кипятить вонючую грязь — составную часть «черного масла», нужного Сарацини для работы, — и вообще играть роль мальчика на побегушках и «ученика волшебника».
А чем же занимался этот волшебник? Подделывал картины — ну, во всяком случае, улучшал настоящие, ничего не стоящие картины. Неужели великий Сарацини действительно погряз в этом непростительном для художника грехе? Судя по всему, да.
Ну что ж, раз пошла такая игра и Фрэнсиса в нее втянули, он будет играть на полную катушку. Он покажет Сарацини, что не хуже кого другого может малевать под немецких художников шестнадцатого века. Ему нужно было написать картину, по стилю и качеству похожую на уже законченные панели, которые сейчас стояли вдоль всех стен ракушечного грота, глядя на Фрэнсиса задумчивыми глазами безымянных мертвецов. Садясь за стол, чтобы продумать свою картину, Фрэнсис рассмеялся — впервые за последние несколько месяцев.
Он сделал много набросков; чтобы показать основательный подход к делу, он рисовал на дорогой старинной бумаге, вырезанной из старых книг и остатков альбомов художников, — запас этой бумаги у него оставался еще с Оксфорда. На бумагу он наносил основание из умбры и осторожно рисовал наброски (их нельзя было назвать эскизами в современном смысле слова) серебряным карандашом. Да, выходило неплохо. Именно то, что он хотел изобразить, то, что удивит Мастера. Он быстро и уверенно принялся рисовать на этой несчастной старой панели — в осторожной манере самого Мастера, непримечательными, аутентичными красками, на каждом мазке смешивая их с волшебным составом из фенола и формальдегида.