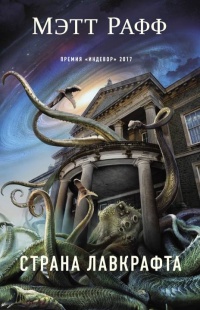Книга Дети Лавкрафта - Эллен Датлоу
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
О, она не предназначалась для приема гостей: стул, на какой я сел, был принесен из кухни.
– Первый раз ее затопили в 1919-м, весной после Первой мировой, – начал Макнаб. – Я расскажу вам о том, что общеизвестно, с чем люди более или менее согласны. Потом, если у вас будет желание, мы сможем перейти к остальному.
Он сыпал именами владельцев, бригадиров и профсоюзных вожаков. Ни одно из них мне ничего не говорило, так, персонажи в истории, начавшейся обыкновенно, когда все стремилось к миру после стольких лет пулеметного огня и горчичного газа в Европе. Но в конечном счете, истинная природа каждого возвращается на свое место.
Бунты 1927-го начались с профсоюзных стачек. Выше оплату, лучшие условия, больше безопасности – как обычно. И винить за такое нельзя. Добыча угля всегда была одной из наихудших работ на свете и, возможно, самой медленной по части усовершенствований.
Переговоры еще и недели не длились, как шахтные боссы прервали их и пригнали целый поезд скэбов, штрейкбрехеров, из Филадельфии. Макнаб предполагал, что боссы и не думали решать спор на переговорах, просто они создавали видимость этого, дожидаясь времени, когда можно будет заменить рабочую силу.
– А для бастующего шахтера, – сказал Макнаб, – нет ниже формы жизни на земле, чем скэб. Человек, готовый взяться за его работу, выполнять ее за меньшую плату и, наверное, не так же старательно.
Вот вам и комитет по приветственной встрече новоприбывших на станции. Предпочитавшие действовать на дистанции явились с топорищами и бейсбольными битами, те же, кому нравилось поближе да погрязнее, прихватили кожаные дубинки размером с ладонь и металлом на конце да кастеты. Боссы не были дураками, знали, чего ожидать. Наняли соответствующую охрану из железнодорожных быков – с их резиновыми дубинками и слепперами, а если понадобится, то и с револьверами.
Тяжелейшие схватки продолжались десять дней. Шесть человек отправились на кладбище, десятки – в больницу, и «Текамсе № 24» превратилась в вооруженный лагерь. Увы, компания, которой война даровала резервы на привозные мускулы, в битве против непополняемого числа местных шахтеров всегда обречена на победу. После этого насилие сошло до отдельных потасовок, в основном если скэбов ловили за пределами шахты, когда похотливость в них брала верх над осторожностью.
Через семь недель решимость местных стачечников стала давать трещины: ничего не добились, слишком много утратили, – и они были готовы попроситься обратно на работу. Как раз в это время завал в четвертой штольне привел к цепной реакции, породив вторичное обрушение на третьей штольне.
– Вот здесь они все и находились, в этих двух самых нижних штольнях, – говорил Макнаб. – Шахта эксплуатировалась восемь лет. Первая и вторая штольни были выработаны. Третья была близка к выработке, но работы там еще шли. Большинство же находились ниже, в четвертой штольне. Три человека только и успели выбраться. Они только-только дотолкали тележку с углем до ствола. Все остальные – либо погибли, либо оказались в завале.
Предполагалось, что выживших было больше, чем жертв. Завалы обычно означают просто закупорку тоннеля, а не полное обрушение свода. Большая часть рабочих попросту оказалась не по ту сторону тонн скального грунта, леса и руды с ограниченным запасом еды, питьевой воды и, возможно, воздуха.
– В любых других обстоятельствах, – продолжал Макнаб, – полный городок мужчин рванулся бы на расчистку завалов – дай только в ствол спуститься. Но не в тот раз. Скэбы… вы помните?.. нет ниже формы жизни на земле.
– Господи, – прошептал я. – Вы хотите сказать, что они просто…
– Оставили их там, где они находились. Потому как скэбы получили то, что им причиталось. Презрение это мне понятно. Но суть в том, что такой ситуации страшится каждый, кто спускается в шахту. Ему нужно знать, что, если такое случится с ним, оставшиеся наверху сделают все, чтобы он вернулся. Таковы условия сделки. И как человеку сидеть на скамье в церкви, временно используемой под совещательный зал, смотреть Иисусу в лицо и голосовать за то, чтобы ничего не делать… Я не знаю. Но они проголосовали. Единогласно. «Вы их сюда притащили, вы их и откапывайте» – это дословная цитата из обращения вождя стачки к компании.
– Откопали? – спросил я.
– «Текамсе»? Нет. Компания не больше рвалась сделать это, чем стачечники, просто причины у них были разные. Боссы заявили, мол, располагают свидетельствами, что не осталось никого выживших, а если и остались, то все равно они не выживут за то время, которое потребуется, чтобы до них добраться. Говорили они все вещи правильные: мы сожалеем об утрате жизней, не хотим подвергать опасности никого другого… бла-бла-бла. Скорее всего, им не хотелось тратить деньги. А скэбы… они в профсоюзах не состояли, так что Объединению профсоюзов горняков и дела до того не будет.
– Так что это больше, чем что-либо другое, – сказал Макнаб, словно бы завершая рассказ, – объясняет ту спешку, с какой закрывали шахту, то, почему на скорую руку завалили ствол. Подобное становится постыдным для всех живущих в округе. То была не их трагедия, а стало быть, и поминать нечего было. Не желали, чтоб это жило в чьей-нибудь памяти. Чем скорее все будет шито-крыто, тем скорее им можно было бы начать притворяться, что этого вообще никогда не было.
Меня заинтересовало, насколько действительно коллективным было такое решение. Было ли оно доподлинно единогласным или мандатом, предписанным немногими, а всех остальных подстрекали согласиться с ним, будто знали, в чем их благо. Даже тогда это было решение с точкой невозврата. Нельзя было передумать через две недели, вопрошая, что мы наделали, и сделать все как надо.
Нужно очень постараться, чтобы потрясти, ужаснуть меня, но этому – удалось. Вся наша округа была построена на костях людей, которые сели в поезд, чтобы получить какую ни на есть работу, и умерли, вцепляясь пальцами в пустую породу.
Оглядываясь назад, не скажу, что у меня были определенные ожидания от этой встречи. Она лишь утвердила ненависть, какую я все равно испытывал бы к людям, чье зло проистекало не из какого-либо грандиозного замысла, а из бухгалтерского подсчета расходов-доходов и злости. Ненависть не вернула Дрю. Она не рассеяла траурной пелены, что легла на наш дом, словно облако, какому, может, и не суждено никогда его оставить.
Но важнее то, что это так и не разубеждало Кэйти в ее представлении, что Дрю не погиб, месяцы проходили, а она упрямо лелеяла его. Для нее все вокруг будто сговорились похоронить ее брата заживо из-за растущего чувства неудобства. Это ставило меня в положение, хуже которого и не придумаешь: надеяться, что Дрю погиб в первый час аварии, что он, оглушенный, выбрался из машины и нашел быстрый, но милосердный конец в студеной темной воде на дне ствола. Уж лучше так, чем медленная смерть от обезвоживания и голода.
Только Кэйти и с этим не желала соглашаться.
– Он жив, – говорила она в апреле. – Я бы знала, если бы его в живых не было.
На нас с Джинни она смотрела как на врагов, когда мы напоминали ей, что отрицание есть обычная стадия после утраты и она проходит.