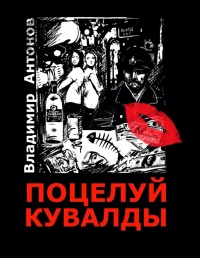Книга Симптом страха - Антон Евтушенко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Во даёт! — удивился тот. — Это как?
— Почил в неравной борьбе с чугуниевой жопой перемен, попав по распределению на военную кафедру истфака ЕГУ.
— А английский? — не поняла Третья. — Откуда так хорошо знаешь английский?
— Откуда, откуда… оттуда! Книжки умные читаю, называются учебники.
— Ну и зачем тебе английский, лейтенант-историк? — спросила Вторая. — Для совращения интуристочек?
— Фу на тебя, — обиделся (или сделал вид, что обиделся) Гилленхаал. — Чтоб ты знала, изучение английского способствует индивидуализму. Изучающий другой язык более склонен к личной независимости. Это такой антидот, чтобы не отравлять организм единообразностью военных масс.
— Да, — усмехнулся Алек, — вооружённые силы в этом смысле силы ещё те.
— Вообще, суверенность у меня на уровне, а вот с целеполаганием — напряг.
Гилленхаал пощёлкал пальцами и неожиданно загрустил.
— Даже если ты маньяк, но маньяк первостатейный, что называется от бога, после тебя что-то останется — в ноосфере, в истории, в мировой культуре, это по-любому. А вот от меня ничего не останется. Нет такого дела, за которое я бы боролся до последнего. Есть только решение насущных проблем, а этого для истории как-то маловато.
— Ого, да у нас тут затесался кто-то с честолюбием, — подколола Вторая. — Ни в коем случае не поднимай свою самооценку, иначе звёздной болезнью себя обеспечишь всерьёз и надолго.
— Спасибо, мать. Можешь поддержать!
— Всегда пожалуйста… сынок.
Окунева деликатно молчала всё время пикировки. Зеркало в шкафу, поставленное для гардероба, отражало их компанию. Нэнси осмотрела своё отражение. Вот она: девочка тонкая, образованная, из хорошей семьи. Стиранный свитерок стягивает узкие лопатки. Что же она здесь всё-таки делает? Повстанцы, шахиды, запрещённая литература, священная война… Удручённость на грани замешательства. Это точно её? То ради чего она кажется смелой, героически перешагнувшей кризис и нашедшей дело, за которое готова бороться. Готова ли? Или она только кажется смелой, а на самом деле её симптоматика сильно схожа с симптоматикой Бориса Ильича? Может она, как и Алек Первый только решает свои насущные проблемы…
Она откинула со лба волосы и провела пальцами по щеке, уткнулась взглядом в снежный узор на скатерти, не в силах поднять глаз. Беспокойство распирало её. Как могла, разбавляла чернильный мрак, зарождавшийся в глубинах души, бодрилась, убеждая себя, что беспокойные брожения — результат утомления, изнурения работой, а вовсе не дезориентированных орбит убеждений, её образа мыслей, символа веры, не признак чутья, что всё идёт не туда и не так. Внутреннему голосу она, правда, давно заслуженно не доверяла, однажды сделав на его счёт неутешительные выводы, но от этого сейчас ей не становилось легче. Она ощущала почти физически внутри себя силовое поле с постоянно растущей напряжённостью. Странно, но оно — поле беспокойной силы — действительно было ощущаемо органами чувств и даже имело собственный запах — запах вишнёвых косточек. Невинный аромат, за невинностью которого скрывался тяжёлый дух смертельной синильной кислоты.
На середину стола водрузили тарелку, сильно смахивающую на селёдочницу, с выложенными по периферии песочными рулетами с вишнёвой начинкой.
— Наконец-то приехали рулетики, — обрадовалась Вторая. — Налетай, народ.
— А нам бы счёт сразу, — попросил Алек, и официант понимающе кивнул, заскользил через весь зал к кассовому аппарату, предупредительно огибая островки вымытого пола.
Хлопнула дверь. По только что отмытой плитке затопали тяжёлые подошвы.
— Твою мать… — казённо-нудным тоном проворчала истомлённая сизифовой работой царица марафета. Наклоняясь под низкой притолокой, она оторвала дородный зад от дверного проёма, ведущего на кухню, и приняла угрожающую позу. Когда по трижды натёртому тобой полу проходят ботинки 45-го размера с налипшей на подошвы грязью, сложно сдержать внутренний голос, производящий с десяток нецензурных выражений. Парочка, нет-нет, да и прорвётся наружу.
— Мужчина, блять, ну ноги надо вытирать! Не у себя дома!
Аффективная фраза чрезмерно возбудимой дамы со шваброй не могла ни привлечь внимание Клуба. Все, как по команде повернули головы в сторону отчаянного удальца, рискнувшего пробраться без бахил на территорию девственно-стерильного порядка. Мужчина улыбнулся глазами, как бы извиняясь перед всеми, и всем стразу стало понятно, что перед ними не удалец, а просто лузер-залепушник.
— Кто-то хочет попасть в историю? — неожиданно рассмеялся Алек, намекая на Гилленхаала и поглядывая на него. — Вот чувак реально влип!
— У него есть шанс, — принял шуточную эстафету Гилленхаал. — Он пока на этапе изи: слишком просто, справится любая школота. Надо всего лишь горячо извиняться. Не меньше трёх раз. Искренно!
— Да, но одна неосторожная фраза с его стороны, одно-единственное слово, брошенное без должного чистосердечия и прямодушия — и будет мортал комбат.
— Да, — согласился Гилленхаал, — тогда его спасёт только коленопреклоненное покаяние — добровольное и смиренное. Никак не меньше.
Сидящим за овальным столом понравилась весёлые экспромты Алеков. Все, кроме Нэнси, засмеялись. Нэнси не смеялась. Вошедший ей был знаком. Это был сосед с боковушки. Тихий, промолчавший всю дорогу и не сводивший с неё глаз — человек невысокого роста с загорелым на всю жизнь лицом, обильно сдобренном морщинами. Его возраст был невнятен, неопределяем. Можно дать пятьдесят, а можно тридцать пять. Нэнси почему-то решила, что внешность вошедшего характерна для матёрого формалиста — передвигался он с ленцой, под мышкой зажата папка. В какой-нибудь администрации района он бы смотрелся как родной. Она поймала его уплывающий в сторону взгляд и странную гримасу с мгновенным фокусом на ней, едва он обнаружил их компанию.
Страх, по-видимому, одного возраста с человеческим существованием. Он изменчив, разнообразен и способен к самым нелепым градациям и претворениям. Самое вертливое из них, но и самое беспритязательное, пожалуй, паника — что-то безотчётно-инстинктивное с болезненной стигматизацией — клеймением стращанием. Приступ окутывает точно огромное одеяло, моментально заявляя свои права на собственное первородство и первозначимость. Это как попытка двигаться в цементном растворе, который уже густеет, превращаясь в монолит.
Нэнси вдруг показалось, нет, она точно поняла, что страх и прежде был рядом — всё это время, все шесть месяцев. Шелестом страниц, шёпотом слов — всем этим интершумом она активно наполняла глухую ватную пустоту, чтобы не думать о нём ни секунды, ни мгновенья. Она ещё могла предположить, что это просто совпадение — дикое, досадное, случайное. Она знала, что так не бывает, то есть бывает, но случайное стечение всегда закономерно. Ей нарочно хотелось поддерживать связь с глубинным пластом бесконечных возможностей, практически подводя её к границе, после которой подножная действительность превращалась в действительность подделанную прихотью воображения. Нэнси снова думала о кино. Сейчас ей очень-очень хотелось быть по ту сторону экрана. Чтобы удобнее усесться с ведром попкорна и сделать звук погромче, ведь впереди маячила сцена допроса красной партизанщины фашистским полицаем. Полицай, конечно, прикинется своим парнем, угостит трофейным шоколадом (вот он взял коробку конфет, чашку кофе и неспешно направляется к их столику) и заговорит с ними на ломаном, но понятном зрителю языке.