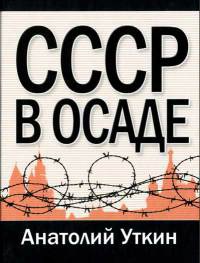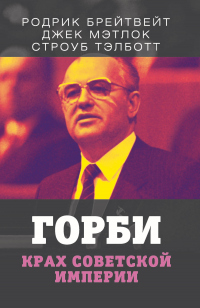Книга Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города. 1917-1991 - Наталия Лебина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Понятие «самоуплотнение» употреблялось в советском правовом поле и раньше. Первоначально оно даже противопоставлялось «уплотнению», осуществляемому официальными органами. В 1924 году, например, научным работникам было предоставлено право самостоятельно занимать освободившиеся комнаты в квартирах, где они проживали наряду с другими жильцами770. И в данном случае самоуплотнение, то есть заселение без участия властных инстанций, рассматривалось как некая социальная привилегия. Самоуплотнение как норма, появившаяся в конце 1927 года в результате принятия целого ряда правовых документов771, толковалось по-иному: владельцы или съемщики квартиры и комнаты могли вселять к себе на излишки площади любого человека, даже не родственника. Излишком считалось все, что превышало санитарную норму, – 8 кв. м. Право на самоуплотнение необходимо было реализовать в течение трех недель. Затем вопрос о вселении на излишки площади решал не ее съемщик, а домоуправление. За исполнением постановления о самоуплотнении следили домовые комитеты. Их председатели докладывали о жилищной ситуации в районные советы и отделения милиции. Излишки площади были формальным основанием для вторжения представителей домкома и районных властей в любое жилое помещение. Насильственная реализация права на самоуплотнение, таким образом, сопровождалась контролем над всеми сторонами повседневной жизни граждан, и в первую очередь «лишенцев», то есть лиц, лишенных избирательных прав в Советской России. К ним, без сомнения, принадлежал и мой прадед. Некоторые квартировладельцы, предвидя возвращение «жилищного передела», решали самоуплотниться добровольно. Опережая решение властей, они подселяли к себе родственников или приличных знакомых. Татьяна Аксакова, дочь известного нумизмата и генеалога Александра Сиверса, вспоминала, как ей удалось найти в 1928 году жилье в центре Ленинграда. Хозяевам квартиры грозило уплотнение. И тогда они решили «самоуплотниться»: по рекомендации общих знакомых вселили к себе молодую интеллигентную женщину. Сосуществовать с ней было намного приятнее, чем с жильцами, предлагаемыми домоуправлением772. Но далеко не всегда ситуация разрешалась относительно безболезненно.
В апреле 1929 года ВЦИК и СНК РСФСР издали постановление «Об ограничении проживания лиц нетрудовых категорий в муниципализированных и национализированных домах и о выселении бывших домовладельцев из национализированных и муниципализированных домов»773. Уже в июле 1929 года людям, подлежащим выселению, вручили извещения о необходимости освободить жилплощадь. В случае неподчинения выселение происходило административным путем – нередко здесь случались настоящие трагедии, что нередко приобретало трагический оттенок. Руководитель отдела коммунального хозяйства одного из районов Ленинграда, отчитываясь в Ленгорисполкоме в сентябре 1929 года, рассказывал: «Приходит участковый надзиратель выселять старика, а с ним паралич случился. Звонит мне: как быть. Говорю, конечно, не выселять. Через четыре дня старик умер. Сам очистил помещение, освободил»774. Когда я увидела этот документ в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, наша семейная история стала для меня более понятной. В семьях моих двоюродных бабушек, в первую очередь Пелагеи Ивановны Евтишкиной (Николаевой), к началу 1930‐х годов произошли печальные изменения. Ее муж Дмитрий Корнеевич Евтишкин, родители которого до революции имели некое обувное производство (пока мне не совсем ясно, какого уровня), в 1924 году возглавил кооперативное производственное товарищество «Быстроход». Но в 1927 году карьерный рост прекратился, а в 1930 году Коку Митю (так звала мама своего крестного) сослали на Соловки. Дальнейшая его судьба неизвестна, но вполне предсказуема. Пелагея Ивановна осталась с двумя дочками в квартире на 4-й Красноармейской улице. Площади было достаточно, чтобы реализовать право на самоуплотнение добровольно или насильственно. Предпочтение отдали первому варианту, и прабабушка переселилась к дочке в квартиру на 4-ю Красноармейскую. Там блокадной зимой 1942 года умерли и прабабушка Евдокия Алексеевна – бывшая домовладелица, и ее дочери – Пелагея Ивановна – когда-то обожаемая мужем, нэпманом-обувщиком Евтишкиным, сгинувшим в Соловках, и красавица Юлия Ивановна, в первом браке носившая известную в Петербурге фамилию Пурышева. Не знаю, имел ли муж Юлии отношение к знаменитому монархисту и черносотенцу Аркадию Константиновичу Пурышеву, но бабушка упорно говорила, что только благодаря красоте сестры семья жениха смирилась с мезальянсом – женитьбой на дочери торговца фуражом.
Прабабушка и две мои двоюродные бабушки, как большинство умерших во время блокады, похоронены в братской могиле на Пискаревском кладбище. Примерно тогда же погибла от голода и генеральская вдова Евгения Александровна Свиньина, не пожелавшая покинуть родину, могилы мужа и сына и выехать за границу к дочерям. В 1919 году в кампанию по «уплотнению» ее выселили из собственной квартиры на Большом проспекте Петроградской стороны (дом 80), а затем, через 10 лет, по праву на «самоуплотнение» загнали в крохотную, похожую на шкаф, комнату в большой коммуналке.
В целом в Ленинграде кампания по выселению лишенцев была завершена к октябрю 1929 года775. Жилищные условия многих горожан значительно ухудшились. Обследование, проведенное, например, ленинградским областным статотделом, выявило, что в 1927 году «на жилой площади муниципальных владений Ленинграда проживало 26,5 тыс. лиц с нетрудовыми доходами. Занимали эти люди 223 000 кв. м (8,3 кв. м на душу). В 1929 году они уже занимают 160 000 кв. м»776. В отношении этой части городского населения не соблюдались даже элементарные нормы расселения. Притеснения, разумеется, вызывали гнев у людей. В секретных сводках Ленинградского ОГПУ, поступивших в 1929 году в обком ВКП(б), была отмечена возросшая враждебность «самоуплотняемых лишенцев»777. Но притеснения «бывших» не могли разрешить нараставший и в стране и в Ленинграде жилищный кризис, который стал перманентным явлением советской повседневности.
Уплотнения и его разновидность – «право на самоуплотнение» – властные структуры применяли и в 1940–1970‐х годах. Но здесь я не могу выступить как историк-профессионал – с документами этого периода, хранящимися в архивах, пока не работала. Не знакома я и с фундированными исследованиями о том, как обеспечивали жильем эвакуированных во время Великой Отечественной войны. Но, судя по художественной литературе, в частности по романам Веры Пановой, написанным в 1940‐х – начале 1950‐х годов, «уплотнение» периода Великой Отечественной войны – вселение эвакуированных – далеко не всегда воспринималось с пониманием: «В квартире напротив жил председатель завкома Уздечкин. До войны ему принадлежала вся квартира, теперь только две комнаты; в третьей жила секретарша директора Анна Ивановна с долговязой дочкой Таней. Анна Ивановна приехала в августе 1941 года. Уздечкин был тогда уже на фронте. Нюра, его жена, уехала с санитарным поездом. Дома с детьми оставалась Ольга Матвеевна, Нюрина мать. Ольгу Матвеевну вызвали в домоуправление и сказали, что она должна уступить одну комнату эвакуированной женщине. Ольга Матвеевна стала кричать, побежала в райсовет и в военкомат – не помогло, везде ее только стыдили. Пришлось смириться. Перед вечером прибыли Анна Ивановна с Таней. Ольга Матвеевна вдруг вошла к ним, не постучав, влезла на стул и стала снимать занавески с окон Она унесла занавески и вернулась за зеркалом. Ей велено было отдать эвакуированным комнату с мебелью, но Ольга Матвеевна рассудила, что ни к чему им зеркало, обойдутся и так»778.