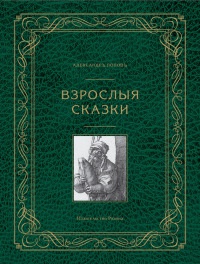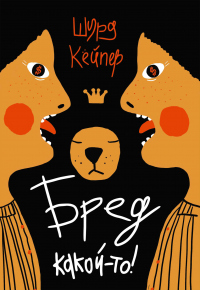Книга Зеленая мартышка - Наталья Галкина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Какой мудреный человек!
— Нет, в быту он был совсем простенький, а все возлюбленные его походили на модисток и официанток. Где-то лежит у меня его эссе «Архитектура как диалог тесноты с пустотою».
— Дай почитать!
— Если скажешь, что у тебя в кофре.
Лузин насупился, придвинул к себе кофр, потянулся за шарфом.
— Ладно, ладно, шучу, отрою, принесу почитать. К сожалению, у меня нет вещи, названной им ноктюрном, «Хозяева, гости, заезжие островитяне». Потому, должно быть, нет, что я любил вышеупомянутый ноктюрн больше всех его опусов и планов. Уезжая, погостив, говорил он: приезжай ко мне в Москву, поменяемся ролями, ты будешь гость, я хозяин. Хотя смена ролей будет неполной, у вас вот как раз приезжие все свои, а местные сформированы из приезжих. При этом все задумчиво смотрят в окно в Европу. Пытались, пытались лишить вас вашей функции, заколотить окно, да заколотите вы это окно в Европу, наконец, задрайте иллюминаторы, откройте кингстоны, тоните с шиком. Истинный петербуржец, говорил он, должен родиться в Кронштадте, отправиться в Африку на поиски родственников Пушкина, воспевать географию, сравнивать дворец африканского царя со старой дачей в Териоках. Если все местные из приезжих, а приезжие свои, говорил я, что же у нас тут, проходной двор? Для проходного двора, отвечал он, время ваше течет слишком медленно, и оно чересчур вязко; Петербург, как уже было сказано, — именно книга с местом для свиданий, и место встречи изменить нельзя. Не зря появилось понятие «петербургский текст», вот только надо внести ясность, уточнив, что речь идет не только и не столько о книжном, страничном, словесном, буквенном тексте, о, нет, весь твой город таков! Скажем, фотографии Смелова с питерскими ведутами и их фрагментами — типичный петербургский текст. И если удосужится человек (как мы вчера) сесть в прогулочную калошу-катер, лучше осенью, и поплыть, лучше медленно, в безмолвии почти, как в день рождения Луизы, по рекам и каналам от Аничкова моста, непременно через Крюков канал, Екатерининский, Мойку, Неву по воде, исполненной осенних листьев, — он окажется в сердцевине петербургского текста, станет его частью. Кто-то из пассажиров катера превратится в междометие, союз, предлог, кто-то в метафору, анафору, анакрузу, гиперболу и так далее. Мы являемся в ваш город Святого Петра на свидание, все мы тут, в Петербурге мы сойдемся снова. Кого тут только не было, кажется, тут побывали все, я никогда не стану писать о Казанове, Сен-Жермене, Калиостро в Петербурге, это уже общее место, как глядящий на Неву из окна дачи Кушелева-Безбородко Дюма или увидевший Исаакий на закате либо рассвете Теофиль Готье, когда розовые камни собора показались ему стройматериалом небесного Иерусалима.
Мое воображение, говорил он, с недавних пор занимают два англичанина и один американец, стоит вспомнить об этих гостях особо, я и вспоминаю.
Все они были журналисты на первый взгляд, официально, так сказать, формальным образом. Гектор Манро (в старых книгах называли его Монро), прибыв, поселился у арки Главного штаба на Большой Морской в гостинице «Франция», принадлежавшей Эмилю Рено. Здесь написал он известное эссе «Старинный город Псков»: «У каждого свои горести, и псковитяне с их кажущимся довольством и поглощенностью самими собою, быть может, имеют собственные представления о том, как приблизиться к новой счастливой жизни. Но иностранец не просит их, чтобы они заглядывали так далеко: он благодарен им уже и за то, что обнаружил живописный и явно умиротворенный уголок в этой переживающей не лучшие времена стране, откуда беда, подобно перелетной птице со сломанным крылом, никак не может улететь».
Зачарованный Петербургом, он вызвал сюда на свиданье сестру Этель, та не поленилась прибыть из Англии, 9 января 1905 года они завтракали в гостинице, услышали выстрелы, Манро выбежал на улицу, щеку его оцарапала пуля, попавшая в стену дома, это был знак, поданный ему полюбившимся городом, знака он не понял. Журналист, бывший полицейский, он подсчитал раненых и погибших, их было около полутора тысяч. На следующий день он отправил в «Морнинг стар» репортаж под названием «Вчера был черный день России». Думаю, петербургский текст, в котором выпало ему жить до 1907 года, окончательно превратил журналиста Манро в писателя Саки (псевдониму обязаны были читатели любимым Гектором стихам Хайяма, «саки» означало «виночерпий»), автора нескольких обаятельнейших книг, по которым можно изучать английский юмор, одна русская княжна Норикова чего стоила. Какие странные строки его я запомнил! Он упоминал мечту о домике в Сибири, «где несытые звери бродят у порога, а может. и по комнатам»… Рядовым ушел Саки на фронт Первой мировой, стоя в ночном окопе сказал соседу: «Да погаси ты эту чортову сигарету», — это были его последние слова, снайпер стрелял неточно, убил не того, чей огонек увидел, но собеседника его.
А читал ли ты, спросил он меня, Уолпола? Конечно, сказал я, «Замок Отранто». Нет, сказал он, это не тот Уолпол, тот, о котором речь, прибыл в Санкт-Петербург — тоже в качестве репортера — в начале 1914 года. Думаю, как и его герой, он остановился на забытом вами ныне острове западной части города, на Лоцманском острове, в самом конце Екатерингофского проспекта, где некогда стоял Подзорный дворец Петра Великого, где над морем среди спутанной травы, старых брошенных лодок, развалившихся у полосы прибоя старых хижин и сгнивших причалов, ему и пришел на ум роман о Петербурге под названием «Тайный город». Как его герой, бродил он вдоль каналов и набережных, вдоль стен отелей «Астория» и «Франция», по еврейскому рынку Апраксина двора, по тихим кварталам Коломны. Этот заезжий островитянин почуял главное: тайную жизнь Петербурга, его душу, его невысказанную недодуманную мысль, шевеление в иных глубинах палеолитических чудовищ, ярко-золотые его луны, тишину Вечности, нечто магическое в пустоте и молчании ледяного залива. Ему попадались места, подобные белым пятнам старых карт, где словно бы никто не был никогда и никто не бывает. Его поразило неоднократно являвшееся ему в городе присутствие Востока, китайские и японские циркачи и актеры, еврейские торговки Садовой, громкогласные, с огромными бюстами, пронзительно кричавшие, размахивая руками, будто деревья в бурю, вздымающие ветви, да какие-то совершенные дикари со всех сторон света на ярмарке в Екатерингофском парке. Второй его роман, связанный с Россией, назывался «Зеленое зеркало». Его звали Хью Уолпол, потом он ненадолго вернулся в Петербург в девятнадцатом году. Видимо, образ погибающего Петербурга стал последней каплей для полноты чаши.
А о третьем, американском, госте интересующей меня троицы, сказал он, я узнал прошлой осенью, когда обе мои ручные крысы, Концепция и Полемика, были еще живы и здравствовали и делили со мной ужинный десерт из галет с укропом, осень пришла и в Барселону, мне случайно попалась статья, утверждавшая, что все начисто американец придумал, не был он в Петербурге, не мог быть, врал как сивый мерин. Хотя, я думаю, фантазия его была не вполне беспочвенна, он мог бы говорить даже и о двух встречах с фантасмагорической русской столицей; первая состоялась в раннем детстве, в Англии, в лавчонке антикварных вещей, где увидел он три волшебные гравюры с Невой и Фонтанкою, вторая произошла в Южной Каролине, человек в летах, оказавшийся американским консулом в России, ненадолго приехавшим домой с веселой рыжей женою, и впрямь выручил занятного молодого человека, декламировавшего престранные строфы, от ареста и штрафа за пьяный дебош спас, да еще и в гости к себе пригласил, и рассказывали хозяева гостю про российскую столицу всякие чудеса. Консула звали Генри Миддлтон, юного дебошира — Эдгар Аллан По. Некий советский писатель собирался о несуществовавшем визите По в Питер книгу писать (писатели, особенно поэты Серебряного века, выдумке Эдгара верили), но записал только одну оставшуюся в черновиках сцену, встречу в кафе, где возмущенный американец, видя пьющего кофий Пушкина, произносит сакраментальную фразу, что, мол, в его стране человека с негритянской синевой под ногтями, возможно квартеронца, в уважающее себя заведение белых людей нипочем бы не пустили. Что дало мне повод вспомнить слова этого писателя из другой книги: «Он врал про Катю, и врал правду». А что если?! — подумал я; прибыл, приехал, научил одного местного ворона кричать «Nevermore!» — недаром наши арестно-расстрельные грузовики называли «воронками», черный ворон, что ты вьешься над моею головой, ты добычи не добьешься (или не дождешься?), черный ворон, я не твой. Слыхал я одного, летел он над растрабабаханным, заброшенным Смоленским кладбищем, крича: «Эдгар-р! Эдгар-р!» — местный иерат, главный. Хотя и чайки, и голуби существуют тут с ним на паритетных началах. Ты здесь ведь не живешь, перебил я его, у нас и снегири встречаются на окраинах, и синицы нам в окна стучат; ну, если в окна стучат, это чьи-то души взывают, сказал он. И почему, сказал он, стоит мне войти в темный вечерний осенний либо зимний Летний сад, как звучат во мне строфы «Ворона» Эдгара По в переводе одного из поздних акмеистов Зенкевича? Вот вхожу, крадучись, тихо, никого, деревья ждут со мною — и слышу: «Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный / В грезы, что еще не снились никому до этих пор; / Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака, / Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне: “Линор!” / Это я шепнул, и эхо прошептало мне: “Линор!” / Прошептало, как укор».