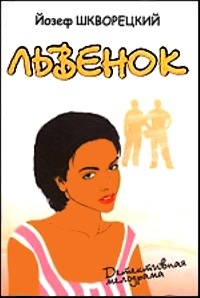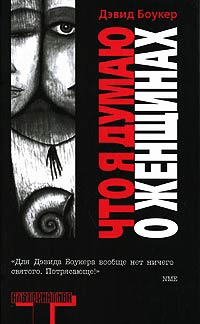Книга Торговец пушками - Хью Лори
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Да, – ответил я.
Только будьте очень осторожны с этой гадостью – она чрезвычайно липкая.
Валери Синглтон
Я убедил Франциско немного повременить с заявлением.
Ему не терпелось передать его журналистам тотчас же, но я сказал, что еще несколько часов неопределенности не причинят нам никакого вреда. Стоит им узнать, кто мы такие, стоит им навесить на нас ярлык – и интерес к нам будет уже не таким горячим. Даже если затем устроить фейерверк, элемент таинственности будет утерян.
«Еще хотя бы несколько часов», – сказал я.
И вот мы пережидаем ночь, по очереди сменяя друг друга на позициях.
Крыша – самая непопулярная из них, поскольку там холодно и одиноко, и никто не соглашается торчать наверху больше часа. А так – мы едим, болтаем, молчим и размышляем о жизни и о том, как она свела всех нас здесь. И о том, кто же мы все-таки – захватчики или пленные.
Еду нам больше не присылали, но Хьюго нашел на кухне несколько замороженных булочек для гамбургеров. Мы разложили их оттаивать на столе Бимона и время от времени тыкали в них пальцами, когда не могли придумать себе другого занятия.
Заложники большую часть времени дремали или держались за руки. Поначалу Франциско подумывал разделить их и рассредоточить по всему зданию, но решил, что так понадобится больше охраны, и, наверное, оказался прав. Франциско вообще оказывался прав во многом. В том числе и в том, что умел прислушиваться к советам. Что приятно отличало его от других. Я полагаю, в мире найдется не так уж много террористов, кто настолько хорошо знаком с ситуациями, связанными с заложниками, что может позволить себе безапелляционные заявления вроде «нет, ты будешь делать так, как я сказал». Франциско барахтался в тех же неизведанных водах, что и мы все, и от этого казался как-то лучше, что ли.
Было самое начало пятого, и я специально подгадал так, чтобы оказаться в вестибюле с Латифой, когда Франциско, прихрамывая, проковылял вниз по лестнице с заявлением для прессы.
– Лат, – сказал он с обаятельной улыбкой, – сходи, поведай о нас миру.
Латифа улыбнулась ему в ответ. Ее переполняла радость – еще бы, ведь мудрый старший брат удостоил такой чести не кого-нибудь, а именно ее, – но она не хотела слишком явно демонстрировать свою радость. Латифа приняла из его рук конверт и с любовью смотрела вслед, пока Франциско хромал обратно к лестнице.
– Они ждут, – проговорил он, не оборачиваясь. – Отдай им это и скажи, чтобы пошло прямо в Си-эн-эн, никуда больше. Если они не прочтут его слово в слово, то получат здесь трупы американцев. – Он остановился на площадке между пролетами и повернулся к нам: – Прикроешь ее, Рикки.
Я кивнул. Латифа вздохнула, подразумевая: «Какой мужчина! Мой герой – и он выбрал меня».
На самом же деле Франциско выбрал Латифу совсем по иным соображениям. Франциско посчитал, что галантные марокканцы лишний раз подумают насчет вооруженного штурма, когда узнают, что среди нас женщины. Однако мне не хотелось портить ей звездный час, так что я промолчал.
Латифа повернулась и посмотрела сквозь стеклянные двери парадного входа. Покрепче стиснув в руке конверт, она прищурилась под яркими софитами телевизионщиков. Другая ее рука непроизвольно потянулась к волосам.
– Вот и слава пришла, – подколол ее я. Она скорчила мне рожу.
Латифа прошла через вестибюль к секретарскому столу и принялась поправлять блузку, глядясь в стекло на столе. Я подошел к ней.
– Постой.
Я взял у нее конверт и помог поправить воротник. Затем чуть взбил волосы за ушами и аккуратно стер пятнышко грязи со щеки. Латифа стояла, всецело отдавшись моей власти. Но это не было чем-то интимным. Скорее как на боксерском ринге, когда боксер в своем углу настраивается на следующий раунд, а вокруг суетятся секунданты – брызгая, растирая, прополаскивая, наводя марафет.
Я опустил руку в карман, вытащил конверт и протянул ей. Она несколько раз глубоко вздохнула. Я ободряюще сжал ее плечо:
– Все будет в порядке.
– Никогда раньше не была в телевизоре, – сказала она.
Рассвет. Заря. Восход. Как угодно.
Над горизонтом все еще сумрачно, но понизу уже мазнуло оранжевым. Ночь съеживается, уходя обратно в землю. Уступая место солнцу – карабкающемуся наверх, но пока висящему на одном пальце, уцепившись за край горизонта.
Заложники по большей части спят. За ночь они сгрудились плотнее – никто не ожидал, что будет так холодно, – и ноги больше не высовываются за границу ковра.
Протягивающий мне телефонную трубку Франциско выглядит усталым. Он сидит, задрав ноги на край стола, и смотрит Си-эн-эн с выключенным звуком – из добрых побуждений, чтобы не разбудить Бимона.
Я, разумеется, тоже устал – просто, наверное, у меня в крови сейчас больше адреналина. Я беру трубку у Франциско:
– Да.
Какие-то электронные щелчки. Затем – Барнс.
– Ваш утренний будильник. Пять тридцать, сэр, – говорит он с улыбкой в голосе.
– Чего надо? – И я вдруг соображаю, что задал вопрос с английским акцентом. Украдкой бросаю взгляд на Франциско, но тот, похоже, ничего не заметил. Поворачиваюсь к окну и какое-то время слушаю Барнса, а когда он заканчивает, глубоко вздыхаю – с отчаянной надеждой и в то же время полным безразличием: – Когда?
Барнс тихонько посмеивается. Я тоже смеюсь – без всякого конкретного акцента.
– Через пятьдесят минут, – говорит он и вешает трубку.
Когда я разворачиваюсь от окна, Франциско наблюдает за мной. Его ресницы кажутся еще длиннее.
Сара ждет меня.
– Они везут нам завтрак, – говорю я. На сей раз по-миннесотски напрягая гласные.
Солнце вот-вот начнет карабкаться вверх, понемногу подтягиваясь через подоконник. Я оставляю заложников, Бимона и Франциско дремать перед Си-эн-эн. Выхожу из кабинета и на лифте поднимаюсь на крышу.
Тремя минутами позже, сорок семь в остатке. Все практически готово. Я спускаюсь в вестибюль по лестнице.
Пустой коридор, пустая лестница, пустой желудок. Кровь громко пульсирует в ушах – гораздо громче, чем звук моих шагов по ковру. На площадке третьего этажа я останавливаюсь и выглядываю на улицу.
Народу прилично – для этого времени суток.
Я думал наперед – и потому забыл о настоящем. Настоящего нет и никогда не было – есть и будет только будущее. Жизнь и смерть. Жизнь или смерть. Это, доложу вам, вещи серьезные. Гораздо серьезнее, чем звук шагов. Шаги – это такая ерунда по сравнению с вечным забвением.
Я успел сбежать на полпролета и как раз сворачивал, когда услышал шаги и понял, насколько они неправильные. Неправильные потому, что это были бегущие шаги, а в этом здании бегать никто не должен. По крайней мере, не сейчас. Когда в запасе еще сорок шесть минут.