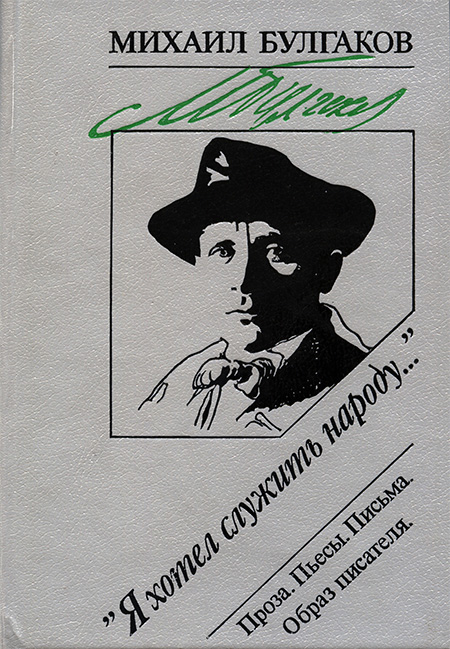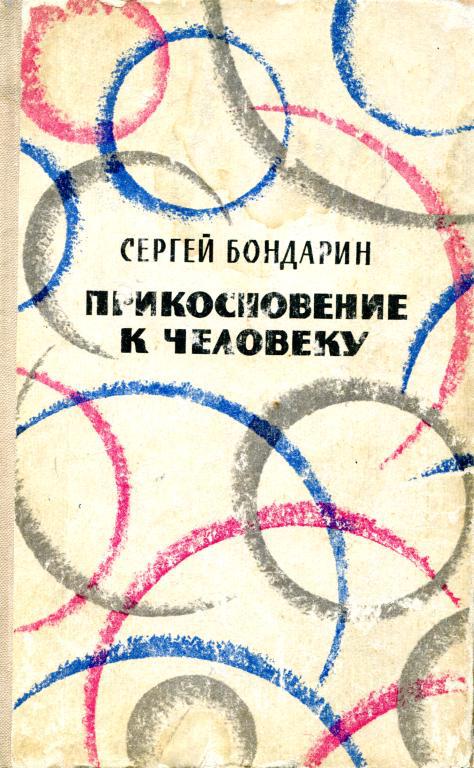Книга Пьесы. Статьи - Леон Кручковский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Жеромский несомненно относился к первому кругу писателей. Его личная судьба была типична для общественного слоя, к которому он принадлежал, для интеллигенции шляхетского происхождения в бывшем Царстве Польском. Он вырос и созрел в условиях двойного гнета, обусловленного, с одной стороны, возрастающей агрессивностью капитализма, пагубной для средних слоев и народных масс, с другой стороны, жестокой национальной политикой царизма. Исключительная чувствительность к страданиям, ко всякого рода несправедливости и невзгодам, характерная для творческой индивидуальности Жеромского, с ранней юности привела его к бескомпромиссной общественной критике, бунту и моральному протесту против всякой несправедливости и господства человека над человеком. На эту эмоциональную почву упали семена прогрессивной русской мысли и идеи европейского и варшавского позитивизма. Эти последние отягощали все его творчество; именно они были одним из источников постоянной склонности писателя к утопическим общественным реформам, его несколько наивной экзальтации в отношении техники, его публицистической страстности в защите реформистского «разрешения» как существенных, так и совершенно второстепенных проблем коллективной жизни.
Глубокая любовь к человеку, пылкость воинствующего гуманиста, далекого от олимпийской уравновешенности и успокоенности, чувствительная до мании совесть и, наконец, обостренная собственным жизненным опытом способность реалистического ви́дения действительности — все это привело к тому, что Жеромский в польской литературе конца XIX и начала XX века стал писателем, который с огромной силой, в самых волнующих образах показал страдания человека в обществе, основанном на собственности, на экономических и социальных привилегиях, на гнете и эксплуатации. Силой его писательского таланта было то, что он видел основное зло капитализма и симптомы общественного загнивания, умел критически анализировать национальное прошлое, чувствовал иногда движение новых сил будущего, прорывающихся из глубины сквозь двойной гнет, хотя и сам неоднократно пугался напряжения этих сил. Писательский подвиг Жеромского, обеспечивший ему более стойкий, чем многим другим писателям его поколения, отклик в народных сердцах, заключался в том, что он не признавал творчества, оторванного от проблем жизни коллектива, и перед лицом жестокой и омерзительной действительности не дезертировал, как почти все современные ему писатели «Молодой Польши», ни в святыню бесплодного эстетизма, ни в мрачную метафизику или подозрительную (префашистскую!) «метаполитику».
Но из-за внутренних противоречий и типичных для средних слоев колебаний Жеромский так никогда и не сумел раскрыть до конца сущность исторического процесса, отдельные проявления которого упорно приковывали его мысли и обостряли писательскую восприимчивость. Возникает какое-то поразительное несоответствие между реалистической яростной критикой общества на страницах «Бездомных», «Луча» или «Борьбы с сатаной» и глубоким пессимизмом сделанных писателем выводов из этой критики и идеалистическим утопизмом «позитивных» решений, которых иногда он искал. Подобные же расхождения можно увидеть между искренностью и силой патриотических чувств Жеромского, с одной стороны, и зачастую, особенно в публицистике, национализмом, который снижал иногда мысль писателя до уровня посредственной буржуазной журналистики, отягощенной поразительно примитивным для писателя такого ранга антисоветским и антирусским комплексом — с другой. Оба эти расхождения имеют один общий источник — страх Жеромского, проистекающий из тяжелой мелкобуржуазной и националистической наследственности, страх перед шествием реальных общественных сил, вступающих в его эпоху на историческую арену с развернутыми знаменами революционной борьбы за общественное, а стало быть, национальное освобождение, единственной борьбы, ведущей к подлинной победе над злом и несправедливостью в общественных отношениях между нациями. Упомянутые черты сужали круг ви́дения Жеромского и не позволяли ему понять далеко идущего значения этих сил, несмотря на то, что он видел мощные удары, наносимые ими.
Любимым героем Жеромского всегда был одинокий человек, исключительно по собственной, суверенной воле, по внутреннему моральному наказу встающий на борьбу против общественного или национального зла. Более того, герой этот чаще всего бывает также «бездомным» в том смысле, что отказывается от личного счастья, чтобы все силы и чувства посвятить «исключительно делу». Эту «бездомность», этот комплекс «разорванной сосны», поражающий нас теперь своим анахронизмом, можно понять только на фоне того времени, когда он появился, как выражение страстного противопоставления омерзительной безыдейности, эгоизму и гнилому оппортунизму правящих классов и мелкой буржуазии, как определенную форму литературного протеста против стремительного, особенно после 1905 года, нравственного вырождения общественных кругов, находящихся в поле зрения писателя. Но ведь это были времена, когда пролетариат, особенно русский и польский, ежедневно предоставлял блестящие доказательства своей идейности, личного и коллективного героизма в самоотверженной борьбе с насилием. Стефан Жеромский замечает человека из народа: деревенского бедняка, сезонного рабочего, батрака, реже фабричного рабочего; однако всегда он его воспринимает скорее как страдающего индивидуума, достойного сочувствия, чем как представителя массы, объединенной единой, общественно обусловленной судьбой, и уж почти никогда не воспринимает как представителя борющихся масс, как самостоятельную классовую силу, способную взять в свои руки и собственную судьбу и будущее нации. Эта политическая близорукость, сознательно суженное восприятие творческих сил народа лишали общественное беспокойство Жеромского реальных перспектив надежды, нередко вели к пессимистическому восприятию общественного зла как фатальной неизбежности, неотвратимого проклятия, отягощающего судьбу человека, иногда заставляли искать решений только в моральной плоскости — в отказе собственников от своей собственности, в реформах сверху или, наконец, в утопических концепциях и изобретениях типа «Огня» Дана{10}, реализованных героями-одиночками.
Непонимание механизма истории, неспособность видеть новые общественные силы, вырастающие в повседневной борьбе, надламывали линию реализма в творчестве Жеромского, подобно тому как «толстовство» нарушало великие классические линии реализма Льва Толстого. Таким образом, «жеромщина» стала на долгие годы понятием, означающим не только и не столько определенный литературный «стиль», сколько прежде