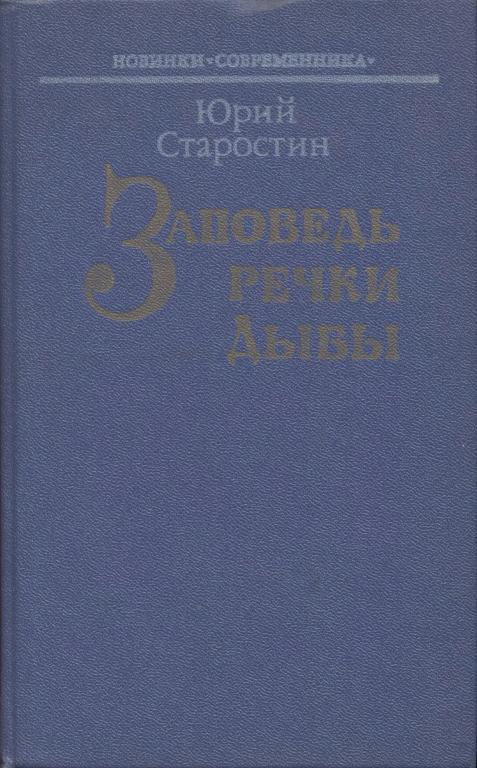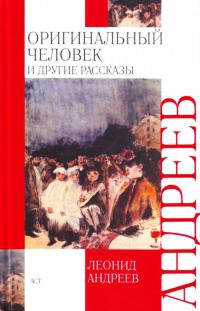Книга Сказка о серебряных щипчиках - Акрам Айлисли
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
…И однажды учительница Сафура вернулась из Баку в Бузбулак с одной-единственной строкой этого стихотворения:
«Солнце всходит и заходит…»
Арык, протекавший через наш двор, протекал и по их двору. Была весна. Было то время, когда в Бузбулаке вздуваются и бушуют арыки. То время, когда от хмельного бузбулакского солнца кружится, дурманится голова. А Сафура, казалось, лишь для того приезжала из Баку, чтоб читать стихи арычной воде — одну-един-ственную строку; с восхода до захода солнца бродила она вдоль арыка и твердила, твердила стихотворение — одну-единственную строку.
Может, с помощью этого стихотворения пыталась она отыскать свою пропавшую память, может, звала ребенка, оставленного в Баку. Кстати сказать, если б арык не протекал у самой калитки и если бы всякий раз, когда калитка отворялась, тетя Гюлькез не начинала причитать, в деревне, может, и не узнали бы так скоро ни о том, что Сафура потеряла память, ни о том, что она позабыла, бросила в Баку свое безвинное дитя…
Каждый раз, когда калитка отворялась (независимо от того, кто отворял ее), тетя Гюлькез громко и сердито кричала:
— Эй, закрой калитку! Крепче закрой, чтоб тебя!.. Запри как положено. Сбежит ведь! Сбежит, и звери ее сожрут в горах!.. У нее же дитеночек грудной, брошенный…
Но не похоже было, чтоб Сафура собиралась бежать, совсем даже не похоже. Мне казалось, тетя Гюлькез кричит так, с горя. Покричав, она сразу остывала и, приткнувшись в углу айвана — на всегдашнем своем месте, — молча бралась за чулок, или перебирала рис, или пряла — тетя Гюлькез никогда не сидела сложа руки. И еще тетя Гюлькез никогда не плакала, никогда никому не жаловалась (хотите верьте, хотите нет — в Бузбулаке легче терпеть горе). Только ругала Сафуру.
— Солнце всходит, солнце заходит… — громко ворчала она. — Да хоть бы оно совсем не всходило, — тебе-то какое дело?! Сунула в рот словечко и жует с утра до ночи, как резинку! Всходит, заходит… Чего бормочешь-то?! Перестань, ради бога!.. Перестань, малохольная!.. По тебе ж дитеночек плачет!.. Твой дитеночек!.. В Баку!.. Один мается, без матери…
Слово «дитеночек» тетя Гюлькез выкрикивала особенно громко, резким голосом, казалось, она хочет докричаться до Сафуры, разбудить ее этим словом. Сафура и впрямь была как во сне, и в этом своем беспробудном сне она не слышала матери.
Сон из одной стихотворной строчки — странно, правда? И, пребывая в этом странном сне, глядя на бегущую в арыке воду, Сафура, наверное, видела школу, где проучилась семь лет и где один-единственный месяц сама учила детей.
Их было пятеро. Все учились на последнем курсе педтехникума. В школу же пришли на педпрактику — всего на месяц. Была весна, когда они к нам пришли. Было то самое время, когда от хмельного бузбулакского солнца кружится и дурманится голова. Но никогда еще не было бузбулакское солнце таким хмельным и дурманящим, как в ту весну, — в школе не осталось ни одного не влюбившегося ученика. Пока эти пятеро, приодетые и торжественные, с журналом в руках не вошли в класс, они не были для нас учителями. Они сами учились, они были учениками. (Разве не они каждое утро с первыми петухами отправлялись в свой техникум?) Но плохи стали дела бузбулакских школьников, когда трое из тех пятерых, что каждое утро с петухами отправлялись в техникум, вдруг оказались учителями; плохи стали дела бузбулакских школьниц, когда двое из пятерых, что каждое утро с петухами отправлялись в район, вдруг оказались учительницами. Девчонки повлюблялись в парней, мальчишки — в девушек. И клянусь: в ту весну не было никаких уроков, была сплошная повальная любовь. И как знать, может, она и была лучшим из всех уроков…
В ту весну вместе с Сафурой в бузбулакскую школу пришло трое парней: Натиг, Хасан и Сабир. Может быть, в строку, которую с утра до ночи твердила теперь Сафура, вмещался кто-то из них?.. А может быть, кроме этих троих, был на свете и еще кто-то и в теперешнем своем сне, состоящем из стихотворной строки, Сафура видела именно его?.. Может, она охмелела от бузбулакского солнца? Может, аромат цветов привел ее в это состояние? А может, она так стосковалась в Баку по нашему арыку, что, увидев его, забыла про собственного ребенка?..
Болезнь это была или сон — не знаю. Знаю только, что однажды Сафура очнулась. Прорыдала полночи — и все. Вот, оказывается, что было лекарством от ее недуга. И, оказывается, тетя Гюлькез прекрасно все это знала. И ругала, и распекала дочь для того лишь, чтоб та зарыдала… «Я еще с вечера вижу: пойдет девка на поправку — глаза у ней были на мокром месте. Уложила в постель, вижу — плачет. Слава богу… Поплачь, говорю, доченька, поплачь, милая… Надо тебе поплакать. Совсем, говорю, ты у меня обезумела, младенца своего грудного забыла… Плачь, милая, плачь досыта… Она как взялась, да навзрыд!.. Потом заснула, а утречком глаза открыла, сразу про дитеночка спрашивает… А ведь до той поры вроде и не понимала, бедная, что родила, что ребеночек у нее…»
Так рассказывала тетя Гюлькез соседкам историю выздоровления Сафуры. Самой Сафуры в это время в деревне уже не было. Она была в Баку возле своего ребенка, и кто знает: может быть, ради этого ребенка она забывала теперь единственную, последнюю строку стихотворения, в котором были солнце, любовь и. ослепительная желтизна пушистой вербы, — стихотворения, которому она учила нас в ту весну в бузбулакской школе…
Позднее у Сафуры еще появились дети. Значит, порыдав однажды, она навсегда излечилась от своего недуга. Господи, что ж это было за рыдание!.. А там, где она спит теперь вечным сном, есть там любовь, свет, стихи? Стихи…
И мне вдруг вспомнились еще одни тогдашние стихи, только совсем другие.
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ УГЛЕМ
Стихи были про учительницу Физзу. Про ту Физзу, что когда-то, поднявшись с первыми петухами, громко звала Сафуру, стоя у их калитки. Про Физзу, которая вместе с Сафурой пришла тогда в школу давать уроки.
У Физзы была желтая жакетка, волосы с желтовато-солнечным отливом, а верба во дворе бузбулакской школы была в ту весну желтая-прежелтая. Она была так похожа