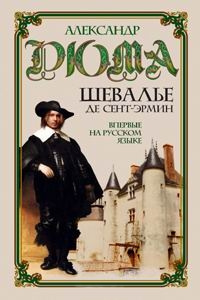Книга Пепел и снег - Сергей Зайцев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С каждым переходом мы испытываем всё большие трудности. Проклятие и кара Господня — падеж лошадей. Дорога загромождена брошенными повозками. Ценности, увезённые из Москвы, сокровища, коими уже никто не дорожит и не соблазняется, лежат по обочинам. Обычное для последних дней явление — за неимением котлов, солдаты варят конину в золотых чеканных чашах; спят, расстелив на земле персидские ковры, которым цены нет, или используют эти ковры, сооружая навесы от дождя; редчайшие книги идут на растопку; кое-кто из обозных занят выковыриванием индийских рубинов и сапфиров из окладов икон, сами оклады, вдруг потерявшие в цене, безжалостно выкидываются — они или занимают чересчур много места, или очень тяжелы. Благо, мне нечего бросать, ибо самое тяжёлое, что я несу, — мои скорби, и от них так легко не отделаешься, а из прочего — всего ничего, черепаховые шахматы, не столько похищенные в Москве, сколько спасённые из огня (перед гобой, отец, эта оговорка должна меня оправдать, я никогда не был мародёром), они изящны, миниатюрны. Мысль о том, что вы с дядюшкой Полем будете проводить за сими шахматами досуг, греет меня.
Всё более ощутимым становится голод. Говорят, сегодня сыт лишь тот, кто поближе к императору, тот, чью преданность император видит и на чьи штыки полагается; в основном — это гвардия. Многие из нас, отставших и уж тысячу раз проклявших Бонапарта, тоже были бы преданны ему, если б не были так голодны. А те из нас, кто ещё хранит верность присяге, хранят эту верность лишь оттого, что им некуда деваться, — русские обложили нас с трёх сторон и жмут, не дают передышки. Говорят, в Смоленске нас ожидают припасы еды. Боже, дотянуть бы до Смоленска! А пока спасаемся кониной...
Близ Вязьмы, 21 октября
Почти беспрерывно мы слышим отголоски арьергардных боев. Это Даву обеспечивает наш отход. Вестовые, то и дело проскакивающие мимо нас, говорят, что Даву сражается, как лев. Мы молимся на него, мы восхищаемся его мужеством. При случае я скажу друзьям, что и библейский Самсон, и мифологический Геракл, и Тристан, и легендарный Роланд фигуры не вымышленные — у всякой нации в своё время появляются герои, истинные исполины духа.
Таков и наш нынешний Даву.
Теперь об отголоске совсем иных событий; так неожиданно поворачивается планида любви... Ещё возле Гжатска к нашему обозу прибился некий поляк, едва не угодивший в плен к казакам, — человек весьма болезненного вида (а сейчас, надо признаться, у всех у нас вид нездоровый), поведения нервического, с поступками, на нормальный разум необъяснимыми — ему вдруг столь понадобилось свести с нами приятельство, что он не пожалел мешка отменных сухарей. А при поляке сем были карета и двое слуг. По правде говоря, за всеми впечатлениями последнего времени меня нисколько не заинтересовал какой-то случайный попутчик, тем более не обратил я внимания на его слуг. Но сегодня меня как огнём обожгло: в одном из поляков я внезапно узнаю Кристофа (Кшиштофа), того самого, что некогда служил в доме Бинчаков и преподлейшим образом подглядывал за нами с пани Изольдой через замочную скважину. Занесла же его нелёгкая в Московию!.. Кристоф, конечно, очень изменился — отпустил бородку, возмужал, однако глаза его до сих пор не переменили своего виновато-плутоватого лакейского выражения. За них-то моё внимание и зацепилось. Я надумался было вернуть Кристофу должок, задать за фискальство трёпку, но как тот уже служил другому господину, то, дабы не обижать сего последнего, я счёл необходимым простить его слугу, не в меру прыткого и лёгкого на язычок. Однако не переговорить с Кристофом не мог. Он не сразу узнал меня, долго вглядывался, чесал затылок, а когда узнал, то не сильно испугался — должно, и он, пройдоха, отлично понимал, почему я сразу не ухватил его за ухо. И разговор со мной порывался вести на равных (ох уж, эти лакеи!), но быстро одумался и переменил тон, когда увидел, как вздрогнула непроизвольно моя рука. А вот и собственно отголосок: пани Изольда вышла замуж. За Кошиньского, богатея и сноба. Я видел его однажды в костёле: держится аристократом, однако аристократизм его — весь напоказ, как бы маска, к тому же, не очень мастерски разрисованная. Таковые «аристократы» причисляют себя к высшему обществу уж потому только, что выучили с десяток заумных слов, а также взяли за обыкновение посещать свой свинарник в домашних туфлях и нюхать при этом ароматическую соль (хоть, быть может, в детстве только тем и развлекались, что катались на свинье и, к месту сказать, тогда, вдыхая амбре свиных нечистот, не считали своё обоняние оскорблённым). Впрочем я рискую показаться пристрастным, строя не очень лестные предположения относительно почтенного господина. И ничто не берусь утверждать... Замечу только, что Кошиньский старше пани Изольды лет на тридцать. Кристоф считает, что для пани, для вдовы с разбитым горестным сердцем, это очень своевременная и удачная партия. Его последние слова я пропускаю мимо ушей. Не многого бы мы стоили, если бы прислушивались ко мнению жуликоватых лакеев. Эта неожиданная весть почему-то не сильно огорчила меня. Я подумал: женщина — есть женщина, она — как птица в небе, у неё свои дороги. И относиться к ней надо, как к птице: сегодня видишь — и ладно, любуйся, слушай трели, а улетела — не ищи. В сердце моём быстро созрело отношение к новому замужеству Изольды — сочувствие. Я бы, кажется, Изольду презирал, кабы знал наверняка, что она меня не любила.
Любовь, любовь... Тот поляк, у коего Кристоф находится в услужении, кажется, тоже поражён сим прекрасным недугом. Очень уж настойчиво он распространяет и подпитывает слух, будто везёт какие-то важные для Польши архивы. Расчёт простой: ныне ни одна каналья не позарится на бумаги. А между тем мне однажды довелось увидеть, как из-за шторки в окне кареты выглянуло прехорошенькое женское личико. О, благословенна канцелярия, оставляющая после себя такие архивы!.. Блажен страж, сдувающий с этих архивов пыль!.. Без колебаний я мог бы указать вокруг себя с десяток отчаянных молодых людей, способных даже в теперешних, не располагающих к нежным чувствам, условиях увлечься этой юной дамой или хотя бы взволноваться её присутствием (мне не хочется говорить о насилии над женщинами, какое творилось с первых дней кампании и творится до сих пор; однако для полноты картины вынужден сказать, что есть среди нас немало охотников позабавиться с женской натурой, за забаву ту предварительно не заплатив — ни деньгами, ни услугами, ни даже сколько-нибудь заметным уважением, и не предваряя свои плотские наскоки длительным ухаживанием; несчастные беженцы!., и холод не стал насильникам помехой, напротив: к похоти прибавился ещё один стимул — возможность погреться женщиной). Сказанный господин не напрасно прячет девицу за семью печатями; бывают времена, когда лучше поворачивать перстни камнем внутрь, к ладони, — тем вернее сохранишь пальцы, а может, и саму голову.
Дорогобуж, 25 октября
Хартвик и де Де где-то по случаю раздобыли для меня дамское седло. Я пересаживаюсь на коня почти уверенный, что обморок и на сей раз подкосит меня. Но опасения напрасны: минута проходит за минутой, а его величество свищ и не думает капризничать, хотя припухлость колена не спала и даже через рейтузы хорошо видна. Скоро обоз останется далеко позади.
Теперь, когда я получил возможность самостоятельного передвижения и, обгоняя обоз за обозом, полк за полком, увидел как бы всю армию целиком, совершенно убедился — представлять наше постыдное, равнозначное разгрому бегство манёвром может либо человек, неспособный признавать собственные поражения, либо человек, ничего не смыслящий в военном деле. Поскольку второе отпадает, остаётся первое. Дисциплины нет и в помине. Мы уже не армия, мы толпа — растерянная и неуправляемая. Об опрятности солдат, об их достойном внешнем виде не может вестись и речи: они грязны, одеты во что попало — и в гражданское, и даже в женское платье, — они заросли бородами, многие, кажется, завшивлены. Солдаты голодны и злы. Драки между ними давно никого не волнуют, ибо никого не волнуют явления и пострашнее: мы вынуждены оставлять на дороге раненых (карет и телег сколько угодно, но остро не хватает лошадей); раненые взывают о помощи, они рыдают, они умоляют не бросать их, но мы уходим, стараясь не думать о том, что станется с этими несчастными через сутки-двое...