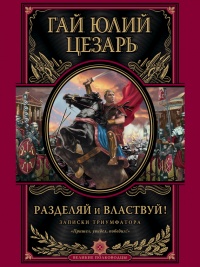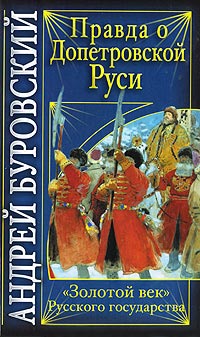Книга Азеф - Валерий Шубинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Про отмененное покушение во время поездки в имение Бенкендорфа упоминают Аргунов и Чернавский. Этот план разрабатывался. А про нападение на поезд известно только со слов Герасимова. Не было ли это, как предполагает Прайсман, мистификацией Азефа? Может быть, хитрый двойной агент продемонстрировал Герасимову и Столыпину «спасение жизни государя» — на каковую в этот раз и не покушались?
Но информатор-министр (самое меньшее — товарищ министра) реально существовал. И подготовительная работа к покушению на Николая — была. Азеф не предавался праздности в объятиях Хедди.
А теперь посмотрим на события с другой точки зрения.
В книге Лопухина «Отрывки из воспоминаний», изданной в 1923 году в Москве (!), пересказывается такой разговор с Витте, состоявшийся в 1903 году в Париже. Витте был в то время обижен на царя и не скрывал этого — как и своей неизменной ненависти к Плеве, непосредственному шефу Лопухина.
«… A затем речь Витте, облеченная в форму двусмысленных намеков, приняла такой смысл: у директора департамента полиции ведь в сущности находится в руках жизнь и смерть всякого, в том числе и царя, — так нельзя ли дать какой-нибудь террористической организации возможность покончить с ним; престол достанется его брату (тогда еще сына у Николая II не было), у которого я, С. Ю. Витте, пользуюсь фавором и перед которым могу оказать протекцию и тебе»[253].
Трудно сказать, что там было на самом деле — Лопухин мог посмертно «оклеветать» Витте, Витте мог «проверять» Лопухина — да мало ли что.
И, конечно, Азеф про этот разговор не знал. Но общую атмосферу — понимал.
А теперь вдумаемся в то, что происходит.
Начальник спецслужбы с ведома премьера санкционирует подготовку серии покушений на царя — с тем, чтобы они не были доведены до осуществления. Поручают они это человеку… сомнительной честности. Да, про его роль в убийствах Плеве и Сергея Александровича они не знают (не хотят знать), но покушение на Дубасова было у них на глазах. Причем этот человек командует настоящими, убежденными террористами. И постоянно находится под угрозой разоблачения.
А чем эта игра должна закончиться? Есть только два варианта: или вся группа арестовывается (а, кстати, почему это до сих пор не сделано? Слово, данное Азефу? А зачем оно дано?), или… очередное покушение «случайно», «по недосмотру» удается довести до, так сказать, логического конца.
В «Царе Федоре Иоанновиче» Алексея Толстого (Азеф мог смотреть спектакль по этой пьесе в Художественном театре, он же был театрал) Годунов так отдает приказ об убийстве царевича Димитрия, несколько раз со значением повторяя: «Скажи ей, чтоб она (мамка. — В. Ш.) блюла царевича». И всё. Может быть, именно так и надо понимать милейшего Александра Васильевича?
Ведь Азеф хорошо знал, как надоел своим приближенным государь Николай Александрович, надоел своим упрямством, необязательностью, примитивно-черносотенными взглядами да и просто глуповатостью. Конечно, мы сегодня осознаем все «смягчающие обстоятельства»: последний император, в отличие от многих, не домогался власти, он получил ее по случайности рождения; и, в отличие от очень многих плохих правителей, за все свои ошибки он заплатил собственной кровью и кровью близких. В глазах Азефа этих смягчающих обстоятельств не было. Николая он презирал самым страшным презрением, каким умный циничный человек презирает глупца. И это презрение должен был приписывать Столыпину — тоже умному человеку.
А чем все это кончится для него, для Азефа? Он просил Герасимова «отпустить» его. Но ведь отпустить себя мог он сам — без всяких проблем. Сбережений вполне хватало на билет до… положим, Нью-Йорка. Или нет, там много русских евреев. До Сиднея. До Новой Зеландии, о которой он упоминал в разговорах с женой. А там уж можно, при желании, найти работу по инженерной специальности. Ни полиция, ни эсеры не стали бы его особенно искать.
Да, «это не может длиться дольше», как шептал он, скрежеща зубами, во сне. Он в самом деле устал. Он понимал, что «дело на царя» — последнее в его жизни. Но его надо было завершить.
А вот завершить его можно по-разному.
Арест БО для Азефа — смертельная опасность и вечный позор. Позор… с чьей точки зрения? Политически Азеф в 1907–1908 годах был скорее на стороне власти, на стороне Столыпина. Но нравственно… Значило ли это слово хоть что-то в случае с Азефом? Может быть, и значило. Ведь были у него дети, сыновья, которых он очень любил, хотя не видел месяцами. Он хотел, чтобы они его уважали. А дети эти росли в революционной среде. И потом — в этой среде Азеф был вождем, героем, а в среде охранительной — только знающим и полезным агентом. Может быть, он хотел и в истории остаться героем, а не предателем?
Да и само ощущение, что от него, от ростовского мещанина Евно Мейера Азефа, зависят судьбы огромной империи, судьбы миллионов людей, наверняка заставляло его сердце биться быстрее. И наверняка это чувство давно уже в большей степени, чем деньги, страх разоблачения или убеждения, было стимулом его деятельности. Разве не забавно — мещанин Азеф убрал неспособного царя?
А власти…
Даже если он ошибся и Столыпин с Герасимовым не имели в виду ничего такого… Правительство регента Михаила Александровича не заинтересовано было бы в открытом суде над ним. Слишком много интересных подробностей мог бы он, Азеф, выложить присяжным. Конечно, уважающие себя спецслужбы более поздней эпохи просто уничтожили бы его выстрелом в спину или ядом, причем в любой части земного шара. Но охранка была в этом отношении сравнительно патриархальна. Азефу, может быть, дали бы уйти.
А вот как поступают с разоблаченными «провокаторами» революционеры — это глава БО знал хорошо.
Так что, как ни крути, лучше закончить карьеру цареубийцей, чем верным царским слугой.
Так должен был рассуждать Азеф уже весной 1908 года, когда тучи над его головой еще по-настоящему не сгустились.
ОБВИНЯЕМЫЙ
Вскоре после бегства Бакая Бурцев через Або уехал в Стокгольм и перешел на эмигрантское положение. Отложив исторические изыскания, он сосредоточился на борьбе с «провокаторами». В его досье было уже около пятидесяти-шестидесяти фамилий. Он разоблачил эсера-максималиста Кенсинского, польского социалиста Брожозовского, «шлиссельбуржца» Стародворского. Все эти разоблачения имели большой резонанс. «В продолжении нескольких лет без перерыва и русская, и европейская печать были полны статьями о русских провокаторах в связи с моими разоблачениями», — с гордостью писал он позднее. Часто Бурцева обвиняли в клевете. Он и в самом деле не всегда обременял себя доказательствами, порой бросал тень и на «невинных», хотя, как правило, интуиция «контрразведчика» его не подводила.