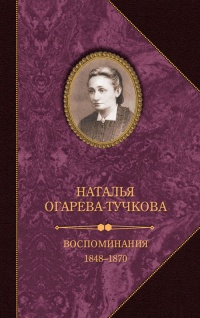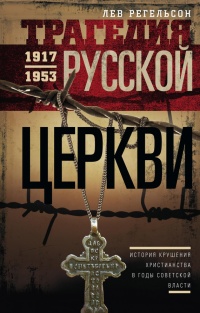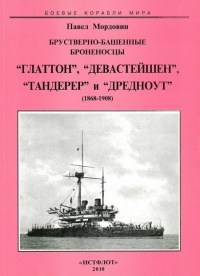Книга Последний венецианский дож. Итальянское Движение в лицах - Лев Мечников
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Выше я уже имел случай заметить, что отдача Ниццы и Савойи французскому императору, взамен Ломбардии, приобретенной по Виллаф-ранкскому договору, представлялась произвольным действием самого Кавура. Новейшие хроникеры и биографы заинтересованных в этом деле личностей[343], преимущественно французы, положительно отрицают, чтобы уступка эта была предварительно выговорена на знаменитом совещании в Пломбьере, как conditio sine qua non[344] французского союзничества против Австрии. Не подлежит никакому сомнению, что Кавур решился на эту уступку прежде, чем Франция потребовала от него исполнения неизвестно когда принятого на себя обязательства.
Кавур слишком привык хозяйничать в итальянском парламенте и наперед мог быть уверен, что, при голосовании он всегда сумеет собрать в пользу своего предложения требуемое большинство. Тем не менее, даже в парламенте, оппозиция по этому делу приняла крайне ядовитый и опасный для премьер-министра характер. Не только пьемонтские патриоты и демократы из лагеря Брофферио взглянули на политику обмена провинций крайне неблагоприятно, но и тосканец Гверраци, никогда не бывший горячим унитарием и представлявший своеобразный оттенок националистических итальянских стремлений, обрушился на Кавура грозной филиппикой. Он напомнил собранию, что почти за подобную же уступку Дюнкирхена[345] английский министр Кларендон был осужден на изгнание.
Но еще чувствительнее для Кавура было то противодействие, которое политика его по этому вопросу встретила в лагере лиц, стоявших к его воззрениям гораздо ближе, чем Брофферио или Гверраци, – лиц, которых нельзя было упрекнуть ни в излишней горячности, ни в незнании тонкостей и усложнений дипломатии и парламентаризма. Недавний союзник Кавура, Раттацци, выступил на этот раз против него с речью, слишком похожей на обвинительный акт. Спокойно и вежливо, но с своей обычной язвительной щепетильностью, Раттацци заявлял, что он не видит необходимости требуемой от Пьемонта жертвы. Он не преминул указать, что, выступая на путь обменов и заискиваний перед иностранным союзничеством, Пьемонт тем самым уже разрывает с так называемой национальной итальянской политикой и становится в опасность утратить все выгоды, проистекавшие для него из его прежней благовидной и благодарной роли. В этом отношении Раттацци был совершенно прав: отдача Савойи и Ниццы с материальной точки зрения, конечно, с лихвой вознаграждалась приобретением Ломбардии и центральных провинций; но она грозила навсегда поссорить конституционный Пьемонт с той патриотической партией, которая нравственно была всесильна в Италии, но которая не сумела бы, без содействия туринского кабинета, облечь свою победу в форму, сообразную с дипломатическими приличиями и консервативными стремлениями иностранных государств. При такой постановке вопроса об отдаче Ниццы и Савойи, veto короля должно было иметь для Кавура очень решительное значение. Одним своим словом Виктор-Эммануил мог не удержать за своей короной эти наследственные владения, но, по крайней мере, нанести решительный удар самовластию и популярности своего слишком требовательного министра. Он, однако ж, не произнес этого слова, а на доводы Кавура о необходимости этой уступки отвечал: «Что ж! Делайте свое дело; а я, расставшись с дочерью, не стану плакать о колыбели».
Можно бы подумать, на основании этой уступчивости, доведенной до своего действительно крайнего предела, что Виктор-Эммануил относился к своему первому министру так, как короли и принцы доброго старого времени относились к своим астрологам и алхимикам, т. е. ничего не понимая в их хитрых и таинственных манипуляциях. В действительности, может оно так и было, но только отчасти, потому что уже в это время король вовсе не так был подавлен и поглощен личностью своего первого министра, как это обыкновенно думают: он видел уже свет не в одном только окошке Кавура.
Теперь, когда драма сыграна до конца и большая часть действующих лиц уже сошла со сцены, нам довольно легко восстановить этот интересный исторический эпизод во всей его психологической правде. При этом Виктор-Эммануил, со всей своей бесцветностью и стушеванностью, вырисовывается перед нами не просто как образцовый конституционный король на манер Луи-Филиппа Орлеанского или Леопольда Бельгийского, но как человек, имевший чрезвычайно определенный склад сочувствий и стремлений, обладавший притом не малой дозой настойчивости и непреклонности, удачно замаскированных чисто-итальянской гибкостью ума.
В лагере своего отца, а может быть и раньше, он узнал патриотическую итальянскую партию и научился, если не любить ее, то, по крайней мере, горячо сочувствовать ее стремлениям. Его общественное положение естественно создавало между ним и патриотической или революционной Италией целую пропасть, пытаться перескочить через которую он мог бы только в порыве героического безумия. Двоякий печальный пример его отца должен был значительно отрезвить его и без того довольно трезвую мысль. Но зато он, с редкой настойчивостью, преследует всякую представляющуюся возможность перекинуть через эту пропасть хоть сколько-нибудь солидный мост. Пока Кавур был для него одним из таких мостов, король упорно держался за него, тщательно ограждая его от всяких повреждений и оскорблений. Но он весьма легко и охотно покидает его, чуть только начинает сознавать, что мост этот расшатался и уже упирается противоположным концом не на солидный грунт патриотических стремлений, а на зыбкий песок дипломатических хитросплетений.
Новый мост, к которому переходит Виктор-Эммануил после того, как Кавур, поглощенный дипломатической интригой об отдаче Савойи и Ниццы с одной стороны и о присоединении центральных провинций с другой, упускает дело объединения Италии из своих рук, – называется Гарибальди.
Мы уже сказали, что 1860 г. в истории итальянского объединения представляет собой перелом. Дипломатический его фазис с присоединением Тосканы и Романий достиг своего предела, изжился, дал все, что он был способен дать. До сих пор дело усиления и внутренней организации конституционного Пьемонта совершенно отождествлялось с делом освобождения и объединения Италии. До уступки Савойи и Ниццы самый ревностный унитарий не мог бы сделать для Италии больше, чем сделал Кавур, считавший, по крайней мере до поры до времени, единство такой химерой, о которой серьезному государственному деятелю непозволительно даже и думать.
В самое золотое время своего могущества и успехов, в эпоху пломбьерского совещания, Кавур развивал нижеследующий политический план:
1) своими либеральными порядками и внутренним благоустройством Пьемонт приобретает себе благорасположение патриотов целой Италии; в то же время, своей умеренностью, он убедит другие европейские правительства, что господство конституционных порядков на итальянском полуострове и освобождение Италии из-под австрийского владычества будут единственным средством к устранению политических потрясений, периодически повторявшихся в Италии с самого начала текущего столетия и ежечасно готовых вспыхнуть вновь с постоянно возрастающей силой;