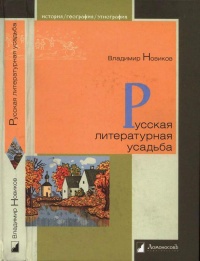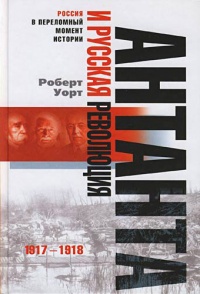Книга Русский Париж - Елена Крюкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ударилась головой об пол. Из разбитого виска тихо сочилась кровь.
Индуска бросила нож на скатерть. Медведь, почуяв неладное, взревел. Борзая и Валерьян вытянули морды и тоскливо заскулили.
Из стеклянной двери в гостиную выскользнула на веранду обезьянка. Дрожала фиолетовыми губами. Припрыгивая, подбежала к валявшейся на полу мадам. Беспомощно обернулась. Амрита увидела — круглые, полные слез глаза. Ребенок. Зверий ребенок. Твоя мамка умерла.
Амрита с ужасом глядела, как обезьянка, вцепившись в плечи хозяйки цепкими ручками, трясет ее, трясет, будто старается судорогами бессмысленной тряски оживить ту, которую любила на свете больше всего.
И впервые в жизни слышала Амрита, как обезьяна плачет.
— О-о-о-о! У-и-и-и-и!
Индуска встала на колени. Взяла голову мадам Мартен руками.
Зрачки не расширялись. Все. Конец.
— Колетт, хватит!
Взяла обезьянку за руки. Погладила мохнатые плечи.
Обезьянка села, растопырила ноги. Закрыла морду руками.
«У нее не морда, а лицо! И плачет она, как мы!»
— Колетт, душенька, — она назвала обезьянку так, как мадам называла ее, — ну брось, ну перестань…
Еще последние, никчемные лекарства. Еще последняя, бесполезная попытка воскресить: искусственное дыхание, рот в рот. Под юными свежими губами Амриты скользил и раскрывался холодный старческий мертвый рот. И Амрита понимала: вот, она молодая, а в который раз уже видит смерть, и очень близко, и держит ее в объятьях.
Мадам Мартен, что так любила женщин, никогда грязно не обнимала свою молодую компаньонку.
Амрита так и не узнала о том, что мадам спала с женщинами, а не с мужчинами.
Теперь все равно. Звери, сироты. Что ей делать со всей огромной звериной семьей?!
Взяла обезьянку на руки. Так сидели: Амрита с Колетт на коленях, вокруг кошки, дог и борзая, и медведь тихо стонал на подстилке в углу.
Заливались вверху птицы, испускали дивные трели. Павлин гулял в саду. Белый попугай ара щелкал клювом в клетке. Хрипло восклицал:
— Tres bien! Tres bien!
— Погоди, Колетт, я сейчас, — бормотала Амрита, вставая с пола, — я сейчас, погоди…
Взобралась на стул. Снимала клетки, висевшие на крючьях под потолком. Выносила клетки на крыльцо. Открывала дверцы. Птицы выпархивали на волю. Амрита следила, как быстро трепещут их крылья. Так трепещет сердце человека, умирая.
— Милые… Летите…
Обезьянка стояла рядом, у ее ноги, вытягивала вверх ручки, ее ладошки розовели, морщилось скорбное, отчаянное личико. Она скалила желтые зубы. Уже не плакала.
Питон медленно подполз. Под утренним солнцем ярко сверкали узоры у него на спинке, будто смазанные яичным белком. Он тоже глядел, как птиц выпускают на свободу.
Далеко, у ограды, весело развернул свой небесно-синий хвост павлин.
«Мадам — старая кукла. Ее выкинут на помойку. Я кукла еще новенькая. Меня кто-нибудь купит. Надо только шире, шире улыбаться».
Индуска выпустила всех птиц из всех клеток.
Потом подошла к телефону и набрала номер «скорой помощи».
Мадам Мартен лежала на белых плитах — маленькая мумия египетского царевича, что умер ребенком. Седые кудряшки любопытным острым носиком обнюхивала белая крыска.
* * *
Кота Мишеля и многочисленных кошек Амрита раздала соседям. Собак взял знакомый охотник. Потом приехали люди из зоосада. Они забрали питона, черепах, павлина и Мужика.
— А обезьяну? Давайте и обезьяну!
Дюжий, с плечами-булыжниками, парень протянул мощную руку к обезьянке. Колетт ринулась к Амрите. Цепляясь за юбку, за кардиган, ловко, как на дерево, взобралась индуске на плечи. Села на спину. Выглядывала из-за головы. Крепко обхватила ручонками шею Амриты — не разорвать.
— Колетт, Колетт, ну что ты… Эти люди добрые… Они тебя не обидят…
Прижалась щечкой к щеке индуски. Дрожала, тряслась вся. Поскуливала по-собачьи.
— Давайте, что тянете!
Люди из зоосада строго, сердито смотрели на нее. Амрита сняла обезьянку с шеи, обняла и прижала к груди.
— Нет. Ничего не получится. Она останется со мной. Вы сами видите.
И опять — из круглых зверьих глаз — крупные человечьи слезы.
Колетт успокоилась только тогда, когда укатил грузовой парижский фургон.
Амрита отпаивала дрожащее животное теплым молоком, угощала орехами.
Колетт очень любила орехи. Она хватала орех, прятала за щеку и била себя по щеке ладонью, словно показывая: вот здесь, здесь я спрятала мое самое дорогое.
* * *
Они все-таки уезжали.
Все-таки это сбывалось.
А Анна думала — нет, никогда; Анне казалось — это все так, игра, разговоры, позерство.
Нет, они и впрямь поверили в то, что там — советский рай.
Что все вольно, радостно, гордо, и — с песней.
Песен им тут не хватало, в Париже! Песен и танцев!
Особенно Але. Да, ей.
Анна складывала чемоданы. Снова чемоданы. Нельзя думать, как доедут. Нельзя вспоминать, как уезжали — оттуда. Прощанье прощанью рознь. Все ходят странно тихие, Ника угрюмый, хуже голодного медведя глядит, Семен то и дело подходит к окну, одергивает гимнастерку. Не смотрит на нее. Отворачивает лицо.
Что ж, так и надо. Поделом ей.
Взглядывала на часы. Стрелки сплетались, обнимались. Разбегались. Сейчас произойдет то, чего она боялась все это время. В Берлине. В Праге. В Париже. Они уедут. Они вернутся! Они бросят ее. Сын уедет за ними. Вскоре. Она и ахнуть не успеет. Мальчики быстро взрослеют. Нику они заразили этой глупой, пошлой влюбленностью в красные флаги.
Флаг цвета крови. И это их не остановит.
Разрывается надвое семья. Пусть плохая; все равно — семья.
Не остановить. Кто сведет края рваной раны?
— Анюта, ну что вы. Может, не надо?
Она и не заметила, как муж подошел.
Бесслезные, сухие глаза. А у него — горят бесстыдным, счастливым огнем. Родина! Она помнит тебя избитую, клейменую. В оврагах, во рвах, на улицах — мертвецов помнит. А у него что, память отшибло?!
Заставила себя улыбнуться.
— Сема, все ли вы уложили, что хотели?
— Анюта, благодарю, вы так помогли…
Смотрела поверх его головы на стрелки часов.
— Семен. Пора.
Аля подошла. Ростом с нее. Выше. Тянется девочка к солнцу. К Родине — тянется. Разве ее остановишь?
— Мама, вы так смотрите… — Закрыла глаза ладошкой. — Ну что вы так…