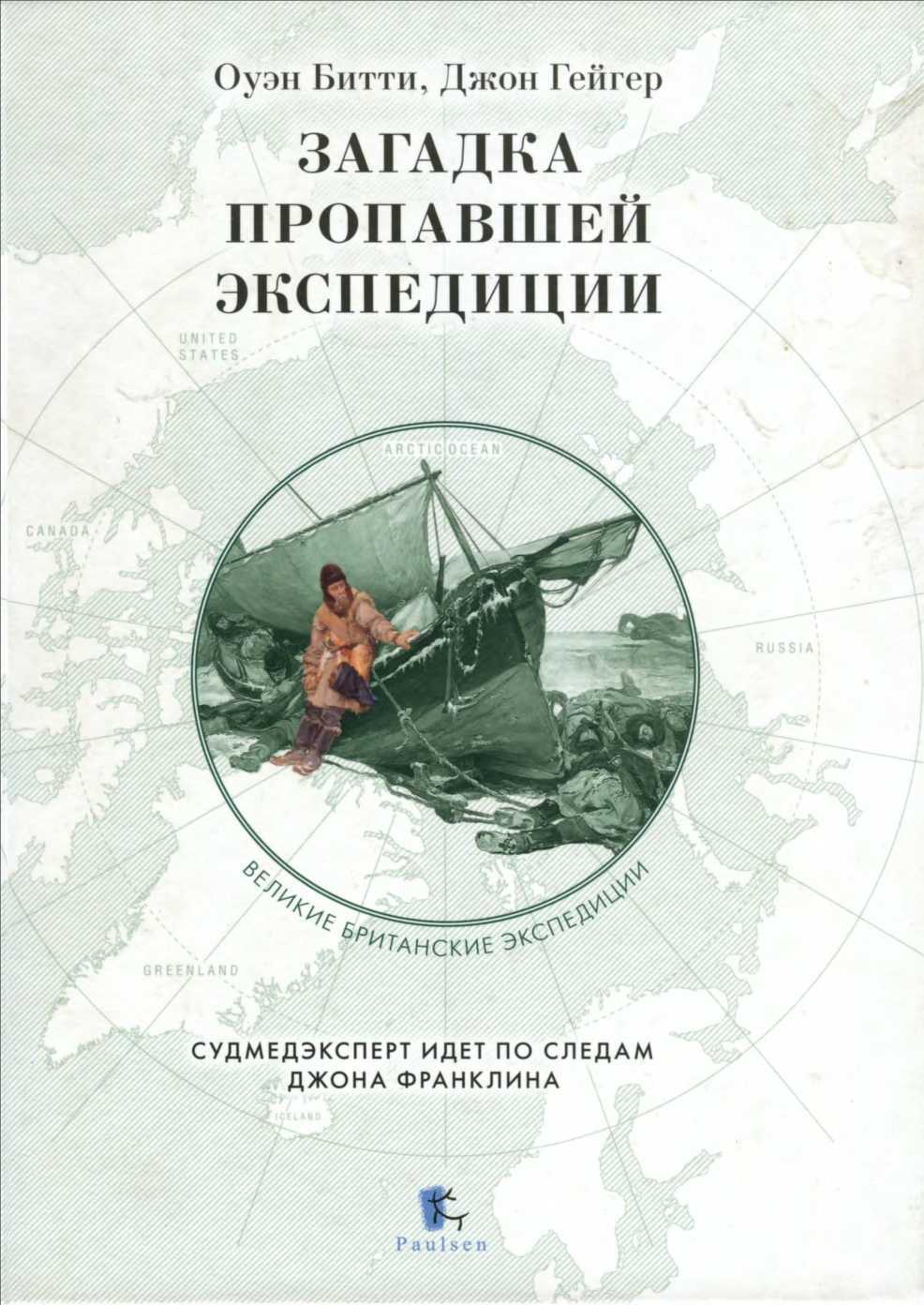Книга 725 дней во льдах Арктики. Австро-венгерская полярная экспедиция 1871–1874 гг. - Юлиус Иога́ннес Людо́викус фон Пайер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Карл Вайпрехт»
Фок-мачта «Николая» украсилась австро-венгерским флагом. Каждый из нас старался привести в порядок свой костюм. Чтобы скрыть недостатки его, мы надели шубы. Стоя на палубе, мы с волнением ждали момента высадки на берег. Судно вошло в гавань. В 3 ч пополудни мы ступили на почву Норвегии с чувством полного освобождения от всех тяжелых испытаний.
Пока лейтенант Вайпрехт оформлял все денежные дела, я взял на себя передачу телеграмм. Весть о нашем возвращении быстро распространилась среди жителей местечка. Они выбежали из домов встречать нас. Я поспешил к станционному зданию. Телеграммы были переданы. Мы знали, что электрическая искра уже несет далеким друзьям весть о нашем возвращении и что она скоро-скоро достигнет их и обрадует.
Экспедиция окончилась. Незабываемым остался для нас обратный путь через Гамбург до Вены, но здесь не место говорить об этом. Зато интересным мог бы оказаться рассказ о том, каковы были наши первые впечатления в связи с сознанием, что мы снова приобщились к жизни всего человечества. Когда-то надеялись мы бросить якорь в родной гавани, но судьба захотела иначе. Старая добрая Норвегия приняла нас со всем свойственным ей гостеприимством. Почти сразу после прибытия нас окружили толпы жителей Вардё. Они питали к нам самые дружественные чувства и с величайшей готовностью шли навстречу всем нашим пожеланиям. Они приносили нам маленькие книжки отпечатанных писем[201] наших родственников, содержащих радостные вести для одних, известия о смерти – для других. Мы направились в предназначенные для нас квартиры. На улицах нас сопровождали толпы людей. Правда, они пришли, влекомые любопытством, но приветствовали нас, почтительно обнажая головы. Только несколько лопарей оказались навязчивыми. Они увязались за доктором Кепесом, который им очень понравился в момент передачи телеграфному чиновнику телеграммы на венгерском языке.
Мы вошли каждый в свой дом. Осуществилась давнишняя потребность, годами скрываемое желание остаться наедине. Мы были одни с чувством, что, наконец вышли из трудного положения, с чувством свободы от всяких забот и даже желаний, с ощущением всеобъемлющего счастья. И вот, несмотря на это, при каждом взгляде на окружающую обстановку, мы вспоминали о существовании каких-то особых потребностей, вызываемых жизнью в культурных условиях. Эти потребности были нами забыты за долгий период экспедиционной жизни. Мы ощутили вдруг необходимость отрешиться от своего неблагообразного вида и придать своей внешности некоторую аккуратность. Наши сапоги были без подошв, наши шубы и прочая одежда выглядели так, что трудно было бы, пожалуй, найти лучшее вещественное доказательство преходящести всего материального[202]. Оставить на себе всю эту дрянь могло стать делом более стойких философов, чем были мы. Наши волосы на голове и лице находились в страшно запущенном состоянии, а на руках отражались следы тяжелой работы. Внешность наша была такова, что разве лишь в обществе самоедов мы могли бы показаться достаточно представительными. И все-таки, несмотря на наш непривлекательный вид, мы были в тот же вечер приглашены к германскому консулу. За столом должны были присутствовать дамы!
Лишь немногие из нас успели произвести некоторые существенные изменения в своем костюме, остальные явились в тех же одеждах, в которых плавали по Ледовитому морю. Помещение было освещено не сальными фитилями, к которым мы привыкли, а настоящими свечами. В каждом зеркале отражались наши фигуры, как бы упрекая нас за наш вид. Нужда выработала в нас свойственное дикарям тонкое чутье, которым мы улавливали малейшие признаки высшей культуры, безгранично радовавшие нас. Среди открывшегося нашим взорам богатства мы вспомнили о существовании женщин. Окружившие нас женщины были любезны. Они видели, как тяжело приходится нам в толстых шубах в жарко натопленной комнате, за едой, вином и оживленной беседой, и предложили нам снять их. Мы остались сидеть в шерстяном белье, надетом 20 мая – ничего лучшего у вас не имелось. Наши соседки казались растроганными при виде той радости, которую испытывали мы, вспоминая о минувших испытаниях. С участием наблюдали они за нашим восторгом, вызываемым стаканом свежей воды, прислушивались к возгласам, которыми мы встречали появление очередного блюда, и к резким сравнениям, высказываемым при этом никак не в пользу проглоченных бочек гороховой колбасы и ведер тюленьего супа. Они были снисходительны к нам, когда мы говорили все сразу, стараясь перекричать друг друга, и не сердились на нас за то, что мы поддались действию вина. Один только старик Карлсен, которому приходилось в течение последних месяцев труднее остальных, держал себя по-другому. Окруженный избытком яств, он не обнаружил жадности, оставаясь сдержанным в еде и питье. Этот бравый, испытанный полярный путешественник поднялся из-за стола, чтобы напомнить о провидении, взявшем нас под свою защиту и так чудесно спасшем нас.
Эту ночь мы провели впервые в чистом белье на настоящих постелях, покрытых свежими простынями. Но спали мы хуже, чем тогда, когда подкладывали под тело и голову пару запасных чулок, – мы не спали от волнения, охватившего все наше существо.
Следующий день был потрачен на обновление нашей внешности. Начали мы с жаркой бани. Потом отправились покупать одежду. Несколькими часами позднее во всем Вардё трудно было найти лучше одетых людей, чем участники австро-венгерской экспедиции. Команда тоже приоделась. Лукинович купил себе бархатные брюки – в его представлении признак величайшей роскоши, а Марола даже обзавелся зонтиком. Только Клотц оставался консервативным – никакие уговоры не действовали на него. До самого Гамбурга он не хотел переменить своего костюма; важно шагая в толпе своих товарищей, он презрительно оглядывал их, наблюдая за переменами, происходящими в их внешности.
В полдень мы собрались на палубе «Николая», чтобы попрощаться с отправляющимися на родину русскими. Все, от чего мы могли отказаться – несколько ружей, патроны, старые сапоги, жестяные котелки, резиновая бутылка, железные ложки и прочее – передали мы им в виде подарков. Русские ушли к себе на совещание. Вскоре они вернулись обратно. К нашим ногам они положили шкуры убитых белых медведей. Это был их ответный подарок. С благодарностью и преданностью пожимали они руки тех, кого так недавно спасли от верной смерти. Преподнесенные шкуры были наиболее ценной частью их добычи за все лето. Такой дорогой подарок могли дать только люди, способные на сильный сердечный порыв. Такой порыв свойственен только национальности этих людей, его нельзя было приписать ни религии их, ни воспитанию. Не считая Воронина, никто из наших спасителей, несомненно, никогда не