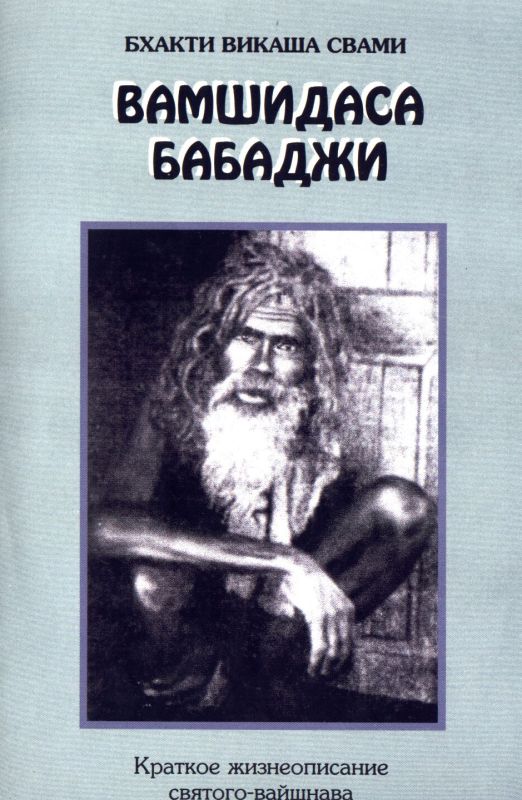Книга Прикосновение к человеку - Сергей Александрович Бондарин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Утром именинник находил у своей кровати ценную игрушку, но, чтоб другому не было обидно, и у его кровати стояла безделушка: ведерце или мяч. День отличался полной свободой от наставлений. Однако, насладившись новыми игрушками и помирившись с именинником, получившим лучшую, на том, что, в сущности, каждый из нас может пользоваться ими равноправно, мы тихо скучали до вечера, когда ожидались гости.
Первой приходила какая-нибудь дама. Мы выбегали на колокольчик, заглядывали в переднюю.
— Дети, уйдите, простудитесь, — говорила мама, проходя в переднюю вслед за Настей.
Настя причесана гладко, украшена маленьким, как салфетка, передником и, чтобы не пахла кухней, опрыскана маминым одеколоном…
— Анна Захаровна! Дорогая! Вот уже действительно всегда первая ласточка.
— А где же маленький герой? Я хочу поцеловать его.
Анна Захаровна, стараясь не измять широкую свою юбку, прижимала именинника к животу, наклоняясь, целовала его, обращалась к Насте:
— Настенька, дорогая, дай-ка мне вот тот пакетик!
— Ну, Анна Захаровна! Милая! — восклицала мама. — Ну, зачем? Что за необходимость? — И спешила ко вновь закатившемуся колокольчику.
А между тем Анна Захаровна старалась сосредоточить и удержать наше внимание вокруг принесенного ею подарка и распаковать его до появления нового гостя. Она жадно следила за проявлением наших чувств и, если подарок нам нравился, милостиво и уверенно обращалась к гостю, входившему с таким же восклицанием:
— А вот он, дорогой именинник! Ну, батенька, ты, однако, вырос. Совсем мужчина.
— Подумайте, Адам Эдуардович, перерастают нас! — шутила Анна Захаровна.
На праздничный чай дети допускались к столу взрослых.
Благодаря толстым, крепко переплетенным книгам, сложенным на стуле, мой подбородок достигал плоскости стола. Я смотрел на мир, как смотрят из подвального этажа, откуда мир виден опрокинутым: сначала ноги прохожего, колеса пролетки, а голова, самая пролетка — потом. Я видел то, чего не замечали взрослые: нижнюю сторону блюдца, крошки, неловко брошенную ложечку и расплывающееся вокруг нее на скатерти пятно.
Отец пил чай, не изменяя своей привычке: не торопясь, прерывая питье папиросой. Я изумлялся этим его равнодушием и гордился им, как признаком отцовской силы и независимости. Его разговор с мужчинами тоже не отличался от тех, какие вел он, когда, случалось, к нему приходили сослуживцы. Это был разговор о банке, о министрах, о думе, о каких-то непорядках.
В банке служил высокий седой Адам Эдуардович. У него дома целая комната была обставлена банками с мертвыми ящерицами и ужами, но я никак не мог понять, что делать в банке большому и румяному человеку с седыми усами.
Мать, в противоположность отцовской вразумительности, держалась очень нетерпеливо: пытливо наблюдала за тем, как гости относятся к печеньям и пирогам, часто спешила на колокольчик в передней. Дамы разговаривали все разом. Они хвалили одна другую.
Вслед за звонком в передней происходило замешательство, мама, кинув на гостей взгляд, говоривший: «Вот как у нас!», перебегала в спальню и потом опять в переднюю; а через минуту Настя вносила белую картонную коробку с тортом. В газоне засахаренных фруктов и кремовых сооружений торчала поздравительная карточка. Поправляя прическу, мама произносила, и ее как будто спокойный голос не мог скрыть чувства удовлетворения:
— Какая досада! Чуриловы быть не могут.
Все восхищались новым тортом.
Уже все торты и варенья испробованы, стаканы уже стоят пустые или недопитые, с проткнутым ложечкой лимоном, а все еще чего-то недостает. Чувствовалось, что ждут гостя самого необходимого, без которого именины — не именины.
Наконец, когда отец уже сдувал около себя крошки, что означало его готовность встать из-за стола, а мама с выражением отчаяния предлагала еще стакан чая, колокольчик радостно взлетал и падал, взлетал и падал еще раз и третий. Снова в передней происходило замешательство, кто-то жизнерадостно сбрасывал калоши, отряхивался, топтался, о чем-то упрашивал маму, с Настей шутил. В дверях появлялся Живчик.
В петлице его сюртука торчала хризантема — огромная, как матовый абажур. Сверкала манишка. Перехваченный бабочкой, высокий и твердый воротник въедался в подбородок, меж створками воротника свисала кожица. Гость держал в руках тяжелый, обернутый, как капуста в собственные листы, букет.
На высоких каблуках, сияющий, радостно отвечая на смех и шум приветствий, он проходил к имениннику и вынимал из кармана всегда неожиданный подарок.
С появлением Живчика для детей именины кончались.
Из своей постели я следил за миром. Когда открывалась дверь, я слышал хор голосов и звон стекла; на обоях, как за ширмой дворового петрушки, ходили, сгибались и разгибались тени; время от времени в комнату входила мать, иногда кто-нибудь из гостей.
— Спи, — говорила мама, — уже скоро двенадцать часов.
Поцеловав меня, они торопливо уходили, веселые и добрые. Я вспоминал смешного Живчика, думал, сидит ли папа с прежней важностью, превосходя этим всех гостей, и, засыпая, боролся со сном, стараясь не заснуть до двенадцати часов. В двенадцать часов, я знал, наступает другой день, мне хотелось видеть, как земля опять опрокидывается к солнцу.
Глава третья
За зиму я забывал цвет травы. Когда я старался ее вообразить, она казалась мне красной.
Зимним моим домом был подоконник. Я влезал на белый холодноватый подоконник и там устраивался, как в долгую дорогу. Подоконник служил и пароходом и каретой. За спиной постукивала ставня. Краска ставен облупилась, я изучил все щели, бугры на ней и пятна.
В нише было светло, опрятно. На дне окна меж отепленных рам лежал пушистый хвост белоснежной ваты. Углы стекол индевели. За окном кутались в шубы прохожие. Иногда двое-трое, встретясь, останавливались перед окном и заслоняли улицу своими шубами; я наблюдал за проскальзывающими извозчиками.
Тащились нищенские санки с залатанной плешивой накидкой, едва прикрывающей седока. Уткнув нос в воротник, рукав вложив в рукав, забытый в санках седок покачивался одновременно со стариком извозчиком, а тот подергивал пеньковыми вожжами. По краю панели трусила собачонка.
Проносились, отдавая звоном оконных стекол, ловкие и могучие лихачи. Над конем вздувалась яркая сетка. Конь обсыпал ее комьями снега из-под копыт, пугался и пенил губы. Кучер, как бы от стремительности бега, гнулся то вправо, то влево, оглядывая дорогу впереди; вожжи держал с достоинством. А ездок, обхватив за талию даму, склонялся к облучку, о чем-то крича, тогда как дама закрывала свой нос маленькой муфтой. Полость саней была из яркого зеленого плюша, поверх накидки — белый медвежий мех, и над всем,