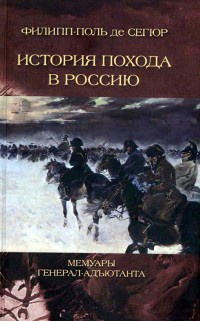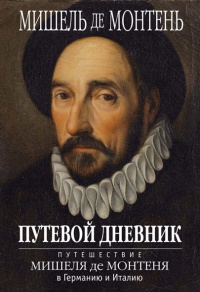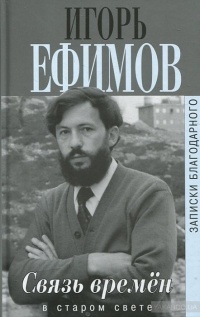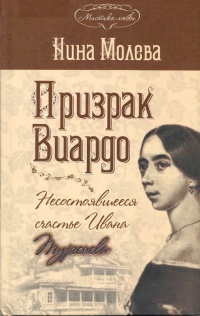Книга Вариант шедевра - Михаил Любимов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пару дней никак не мог отдышаться, и я наметил еще один «стол» на дату прибытия в град стольный, когда ум туриста сам требует обобщений всего увиденного и услышанного. Тут, на мою беду, снова обиделись, теперь уже французы: к нам, мол, относятся как к второразрядной нации, мы тоже хотим «стол» – больнее удара пролетарскому интернационалисту и не придумать! Поскольку во французском море плавал я как топор, то пришлось подключить переводчика, что дискуссию затягивало и уродовало до омерзения. Французы дружно сопели, но слушали, все время переспрашивали и требовали пояснений. Потом возбужденно зажестикулировали, загалдели, а один толстяк в расстегнутой рубашке и с татуировкой на груди заявил, что Горбачев, Ельцин и я лично продали французских пролетариев и поверили Миттерану, который всех нас обвел вокруг пальца, обманул и тоже продал. Я уже приготовился к мягкой отповеди, решил не обострять, ответить легко и с юмором, но тут французы меж собой вдрызг переругались, нахохлились, как боевые петухи, и только слышалось на альтах и дискантах: «Миттеран! Миттеран!»
И вдруг я подумал: «Боже, зачем мне все это?!» Тихо встал, вышел в каюту и раскрыл «Русский Нил». Попал на кусок, когда ни Розанов, ни пассажиры на волжском корабле никак понять не могли, почему им из лодки, проплывавшей мимо, грозили кулаками мужики. Лишь потом доперли: голод на Русском Ниле, голод! А те, кто на корабле, жрут!
Я опустил окно, подуло кисловатым воздухом больной реки. Если бы ведал Розанов, во что превратят его Русский Нил – оазис цивилизации, вокруг которого задумывалось зреть и богатеть России…
И чем больше всматривался я в зеленоватую муть с ошметками водорослей, с белыми крошками, которыми, словно манкой, забросал громады глубин какой-то Сумасшедший Рыболов, тем досадливее и мутнее становилось на душе. Больная вода вливалась в меня, «столы» и вся эта мура показались жутким повторением прошлого, нет, ничего не изменилось во мне, и по-прежнему существовал я в двух или трех измерениях, как и в свои коммунистические годы…
Владыко Василий оказался один в каюте и попросил меня присесть.
«Как интересно, что мы с вами в одно время работали в Лондоне, вы в посольстве, а я на Би-би-си». («Да, – подумал я, – очень интересно, весьма интересно, какое счастье, что я уехал из Лондона в шестьдесят пятом и не работал в семьдесят восьмом, когда болгарские коллеги пришили Георгия Маркова, писателя-диссидента, тоже трудившегося на Би-би-си, укололи зонтиком с ядом».) «У меня после смерти Маркова сын погиб в Лондоне в автокатастрофе…» – сказал владыко, уже включились, видимо, меж нами иные коммуникации, на уровне интуиции. «Я в то время работал в Дании, но вряд ли бы наши мстили вам таким образом… логичнее было бы вас самого…». «Пожалуй, вы правы, я тоже так думаю… что это не вы… и жена моя, покойная мать Мария, так думала…» Наступила пауза, она продолжалась несколько долгих секунд. «Владыко, могу я подарить вам книгу Розанова? Вы, конечно, читали «Русский Нил»? «Очень давно. Большое спасибо. Надпишите, пожалуйста». «Вроде бы неудобно, ведь автор не я». «Надпишите на память, пожалуйста». Я надписал с самыми добрыми словами и спросил вдруг, точнее услышал, что спросил: «Владыко, а как вы относитесь к разведке КГБ, в которой я работал? Аморально было там трудиться или нет?» Он взглянул на меня внимательно. «Человек и его общество несовершенны, еще Иисус Навин посылал, если помните, лазутчиков в чужой стан…» «Значит, работа в секретной службе морально оправдана?» Он посмотрел на меня еще зорче. «Не во всех. Бывают службы, защищающие человека, а бывают…» «Значит, КГБ…» – не унимался я, словно тельняшку рвал на груди, шел на дот. Он улыбнулся мягко, даже слишком мягко. «Я ненавижу и КГБ, и гестапо, и им подобных, думается, вы это понимаете», – улыбнулся владыко. «Значит, мне не стоит надеяться на прощение православной церкви?» Я тоже попытался улыбнуться, нервы, конечно, стали ни к черту. «Святая церковь не прощает ни коммунизм, ни фашизм, но она прощает и Сталина, и Гитлера, если они покаются. Любой человек может быть прощен».
Друзья Витя и Ира Кубекины, еще худой Юра Кобаладзе и мы с Таней
Я искоса взглянул на каютный столик, там лежали бумаги и фотографии, он протянул мне одну: «Это я и покойная Мария». Двое красивых молодых людей в цивильных одеждах шли по английской улице, прижимались друг к другу и улыбались. «Я ведь сначала хотел быть монахом, но встретил Марию и изменил свое решение. Но монахом все же стал…» Он говорил спокойно, уже уйдя в свое далеко, уже устав от меня.
Я встал.
Волга сузилась, вдали пошли добротные шлюзы, построенные заключенными. Я смотрел на зеленую рябь и думал, что и в Лондоне, и в Копенгагене, и в Москве, и при Хрущеве, и при застое, и при Горбачеве, и в посольстве, и в отставке, и на воле, и сейчас, в эти улетавшие, как белые бабочки, секунды, жил, суетился и что-то доказывал другим и самому себе один и тот же человек.
Веселый фильмик этот прозрачно накладывался на теряющие жизнь воды, на реку, загубленную теми, кому она предназначалась в дар…
Вскоре я крестился, я хотел продолжить традицию своих предков, всего рода – ведь папа и его брат окончили церковно-приходскую школу, пели в церковном хоре, собирались и пели псалмы на пасху. Ясно, что в ЧК-ОПТУ крещеному отцу с религией пришлось завязать, естественно, если бы папа меня крестил, ему бы не сносить головы. Собственно, в мои времена чекистам ходить в церковь было строго противопоказано, за паствой присматривали, и был риск попасть на крючок. Крестным отцом был Виктор Кубекин, действо проходило в церкви Симонова монастыря, я честно продефилировал в трусах вокруг чана с водой, но батюшка, к счастью, не окунул меня в него с головой, а лишь слегка окропил.
Единственный вопрос священника: вы никого не убивали?
Нет. А что?
О том, как меняются мозги и в голове звучат совсем другие мелодии
О, дон Антонио, вы совсем не изменились! Сколько мы не виделись? Шесть лет? Нет, я насчитал семь. Неужели вам только шестьдесят два? А эта прекрасная сеньорита, подавшая нам меню, ваша дочь? У вас трое сыновей, ого! Один работает в соседнем баре. Жизнь течет, Антонио, мы медленно, но верно стареем, и что дальше? Помните, как мы напились у вас до чертиков, да еще прихватили с собой три бутылки риохи. Это было белое Парфюм? Неужели я тогда любил белое? А тут на пляже великолепно, и ваш ресторанчик великолепен, и вы сами великолепны, дон Антонио… И тут мелодия:
Это басовитый баритон вольнолюбивого Анатолия Головкова перекликается с всхлипами чаек и мерной поступью волн.
Это испанская война, это последнее братство народов против зла, это интербригады, наша помощь республиканцам, самоотверженные добровольцы и конечно же, венгерский поэт Мате Залка, писатель Михаил Кольцов, будущий маршал Родион Малиновский, их целая когорта…