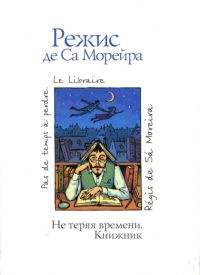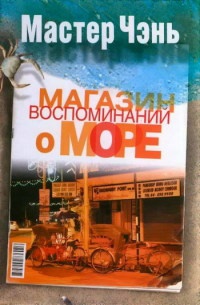Книга Биоген - Давид Ланди
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Оседает… оседает… оседает, накапливая потенциальную энергию путем изменения расстояния между атомами в стальных мускулах ног, и в помещении появляется тяжелый аромат гибели. Леденящий сердце смрад ложится инеем на раскаленные окна палаты. От предчувствия беды напряжение клаустрофобит о глухие каменные стены и съеживает вокруг пространство в гравитационный коллапс[492]. Расползаясь массой ударной волны внутрь, опасность сужается, готовясь к разрыву оболочки больницы[493].
«Ой, ой, ой», – сигнализирует мозг мальчика, и краем правого глаза я вычленяю квадрат для отступления: тумбочка, грядушка, кровать (на которой лежит Дебил) – под ней, как в доте на линии Маннергейма.
Волчица срывается вперед, торпедируя противника мощью взбесившегося неврастеника. Моя кровать, находящаяся в момент прыжка рядом с ней, взлетает, подхваченная инерцией движения, и кружится, как волчок, раскидывая в стороны одеяло, матрас и простыню. Из-за возникшей декомпрессии подушка взрывается, покрывая все белой порошей гусиного, лебединого, гагачьего и куриного пуха. Я выдыхаю облако пара и проваливаюсь в туман. Туман глушит звуки моего исчезновения, и, чтобы определить направление удара, волчица втягивает набалдашником кожаного носа летучие вещества взмокшего тела ребенка. Разгадав еще в полете план моей перегруппировки, она выбрасывает левую лапу вперед. Ее пятерня натыкается на спинку кровати, и та стонет, скрежещет, гнется, перераспределяя кинетическую энергию, а затем отлетает, впечатываясь в стену иероглифами древней мантры пяти слогов и издавая на всю палату шестой, глубокий звук ОМММММ…[494]
Вставая на мою защиту, кровать заваливается на один бок, но хищница успевает схватить жертву за ногу.
Ощутив прикосновение дикой суки, я впиваюсь своими клыками в ее плоть и чувствую нитевыми и грибовидными сосочками языка колючие волоски захваченной ртом шкуры.
От рукопашного контакта с противником волна брезгливости захлебывает мое сознание шквалом ярости. Я сдавливаю челюсти так, что мою латеральную мышцу[495]сводит судорога, а мозг понижает порог болевой чувствительности до нуля.
Внутренним ухом, из носоглотки, я слышу звуки, проникающие в мою голову через евстахиеву трубу[496]. Вот под толстой дермой дикого зверя затрещала лучевая кость. Поддаваясь давлению сжимающихся челюстей, клыки входят все глубже, глубже, глубже, разрывая сухожилия и нервные окончания оборотня, и, не выдержав боли, она отпускает меня еще до того, как ее тело полностью приземляется на пол, возвращаясь в прежнее состояние медсестры.
«Два ноль», – регистрирую я.
Мокрая, взъерошенная, тяжело дыша, медичка делает несколько глубоких вздохов и, задержав дыхание, произносит деревянным голосом:
– Ну всё, ты доигрался!
Осматривает укушенную руку и выходит из палаты, бросив на прощание свирепый взгляд на притихших мальчишек.
Лешка садится на кровать и, взявшись за голову, шепчет:
– Готовься… Сейчас она вызовет санитара, и ты получишь укол.
Витек учит:
– Давид, ты, главное, теперь, не сходи с ума. Будет больно. Очень больно. Но зато ты станешь настоящим мужиком! Лучше не сопротивляйся. Дайся им подобру-поздорову. Силы пригодятся потом.
Возвращаясь в прежнее состояние, я ощущаю во всем теле страшную усталость.
Нет! Я не дамся! Сегодня приедет моя мама!
Спасаясь от приближающейся расплаты, я выбегаю из палаты и попадаю в западню. По коридору уже идет Степаныч. Увидев его, я поворачиваю назад и, юркнув в комнату, осматриваюсь по сторонам в поисках убежища. Но мой взгляд падает на стальные решетки, объявляя, что чуда не произойдет и сражение на этот раз будет проиграно.
Первым входит санитар. Вслед за Степанычем в палату вбегает медсестра. В ее руке широкий бинт и шприц. Распределившись по территории, они начинают загонять меня в угол, и, когда я ухожу щучкой под койку, Степаныч хватает Давидову ногу и дергает на себя. От резкого торможения голова моя бьется о ножку кровати, и, вцепившись в нее, я кричу, чтобы меня не трогали! Что сегодня за мной приедет мама! Что я уезжаю от них домой! Навсегда! Навсегда! Навсегдаааа…
Степаныч прижимает меня коленкой к полу и Маргарита Юрьевна вводит сульфозин.
Боль наступает сразу. Горячая волна сводит судорогой мышцы и, двигаясь вперед, от ягодицы через спину к плечам, вытягивает сухожилия в струнку. Правая нога немеет, и Степаныч ослабляет хватку. Я собираю остатки гнева и пытаюсь вскочить на ноги, но тут же падаю на пол. Подняв оглушенное уколом тело, санитар кладет меня на койку и, привязав только одну руку, ставит рядом с кроватью ведро, произнося при этом:
– Если будет тошнить – а тошнить будет, – блюй в ведро. Все, что напачкаешь мимо, уберешь сам.
Я смотрю на ведро, стараясь осмыслить булькающие вокруг меня звуки. Но гул уже наполняет окружающее пространство всплеском проникающей боли и направляет ее в бочку моей головы. Звуки тонут, как камни, ударяясь о дно затылка. Глаза почти не двигаются. Взгляд липкий, цепкий, как семя репейника. Остановился. Замер, выхватив трещинку на потолке. Силюсь поднять голову, но затылок, как грузило, – тянет, тянет назад. Уперся во что-то мягкое. Догадываюсь – подушка. Голова запрокинулась и застыла, устремившись поплавком носа в небо. Уже не клюнет. Не распустит круги на воде. Картинка подернулась мутью, начала стекленеть. Мир щурится, закрывая глаза на мое исчезновение. Васильки солнечных зайчиков бегают, как загнанные в угол мыши, и, сверкнув в последний раз бриллиантовой крошкой окон, растекаются каплями хрустального дождя по моему лицу. Собрав в ладони остатки углей от некогда прекрасного, бушующего костра жизни, я выгибаюсь дугой и, выпуская из легких воздух, наполняю парус надежды алым отблеском матовой золы.
– Неееееет!!! – несется в пространство вопль поверженного Люцифера.
Обдавая кабину жаром, кровь закипает в моем сердце. Пелену неба разрывает обожженная рука солдата, и, склонившись над внуком, дед трогает прохладной мертвой рукой голову ребенка.