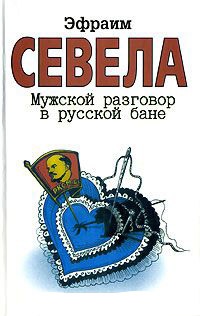Книга "Тойота-Королла" - Эфраим Севела
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мама с папой занимали большую комнату с двуспальной кроватью, туалетным столиком и зеркалом на полстены. Другая стена, лицом к океану, была из сплошного стекла — раздвижное окно, за которым была бетонная чаша балкона.
Чтоб не тратить лишних денег и при этом не стеснять себя по ночам, мои предки использовали балкон как спальню для дочери. На ночь туда выносилась раскладная кровать, заполнявшая весь балкон, я раздевалась в комнате, а туда прыгала, раздвинув окно. Затем папа плотно затворял окно, мама сдвигала толстые шторы так, что даже лучик света не проникал оттуда ко мне, и я оставалась одна на жестком матраце, выставив свои голые крохотные грудки ярким южным звездам, и, прикрыв глаза, слушала, как сладкую музыку, ровный ритмичный шум прибоя.
Миссис Шац, женщина осторожная и подозрительная, высказала моей маме опасение, что оставлять девочку на ночь на балконе в Майами-бич весьма рискованно. Кто знает, какой безумец, особенно из кубинцев, вздумает взобраться по стене и…
У меня замирало сердце в сладком предвкушении, при одной только мысли, что зловещие предсказания миссис
Шац, знающей все, кроме одной маленькой вещи, что ее муж регулярно живет с моей матерью, могут сбыться, и ночью по стене, ловкий, как обезьяна, взберется ко мне на балкон смугленький, в набедренной повязке креол, и его белые зубы хищно озарятся бледной луной.
Мне мучительно, до жути хотелось, чтоб меня изнасиловали на балконе, и я убеждала себя, что не издам ни стона, ни крика. Иначе я разбужу моих предков, и они, с воплями, распахнув окно, прервут процесс изнасилования в самом интересном месте, и мой белозубый креол исчезнет, как мираж, за бетонной стеной.
Я ждала креола и потому долго не засыпала, напрягала слух, смотрела в упор на зашторенное окно, за которым, по моим предположениям, мама и папа занимались любовью и делали это, без всякого сомнения, скучно и неинтересно. Папа не обладал большой фантазией и исполнял свой супружеский долг с усердием делового человека, знающего, что всему есть свое время, и если уж за что-то взялся, то надо это делать как положено. Сексуальную литературу он не читал, порнографические фильмы не смотрел и потому в любви был до тоски старомодным. Так я полагала, лежа на балконе и напряженно прислушиваясь в надежде, что уловлю хоть какой-то признак любовной возни за плотно стянутыми шторами. Оттуда не доносилось ни вздоха, ни стона. Они это делали, должно быть, как обедали, скучно уставившись друг другу в переносицу.
Мое тело при мысли об этом покрывалось гусиной кожей. Возникало мерзкое чувство, словно ступила ногой в какую-то гадость, и я давала себе зарок, что свою жизнь построю не так, как моя мама. А как? Я еще не знала.
Моя мама старилась на глазах. Это тревожило ее, она злилась, глядя в зеркало, и свое раздражение переносила на меня. Мне было пятнадцать, и, как говорил доктор Шац, я вступила в волшебную пору цветения. Я действительно хорошела ото дня ко дню, и видеть все это было сущей пыткой для моей мамы. Я была очень похожа на нее. С той лишь разницей, что моя женственность только начинала созревать, я наливалась сексуальной многообещающей силой, а она, потратив лучшие годы на рутинное скучное спанье со своим мужем и трехкратные роды, теперь блекла, покрывалась морозным инеем ранних морщин на вянущей коже и судорожно пыталась что-то урвать в последний час, ухватившись за ароматного доктора Джулиуса Шаца.
Она меня не любила. И не той равнодушной, полупрезрительной нелюбовью, как это было в раннем детстве, а новым, злым чувством беспомощно и неотвратимо увядающей женщины к юной, набирающей силу сопернице. Это была смесь ноющей ревности и бессильного отчаяния.
Как-то после пляжа, смыв океанскую соль в душе, мы сидели обе в спальне перед зеркалом, полуголые, сбросив с плеч на бедра белые мохнатые халаты, и обе, как две подруги, приводили косметикой свои лица в порядок. Отец оставил нас одних, отправившись в номер к доктору Шацу сразиться в шахматы.
Мы сосредоточенно и молча натирали свои щеки кремом, красили ресницы, накладывали тон и смотрели в зеркале в глаза друг другу, отрываясь лишь для того, чтобы не промахнуться, потянувшись к баночке с кремом. Какими глазами смотрела она на меня! На мои тугие, как яблочки, грудки, покрытые ровным бронзовым загаром, вкусные, как хорошо поджаренный в тостере хлебец. А ее две пустые, как спустившие воздух мячи, груди уныло распластались, уронив на жировые складки живота черные сморщенные соски. Это не был взгляд матери. Это был нескрываемо завистливый и ненавидящий взгляд. В этот момент я окончательно определила, что мы — враги и не только на сочувствие, но даже на пощаду я не должна рассчитывать.
Равнодушие и отчужденность прежних лет сменились агрессией. Мы вступили с ней в войну. И первый удар по самому чувствительному месту нанесла я.
Во Флориде стояла ровная теплынь, и мои предки решили на недельку дольше насладиться этой благодатью. Мои каникулы кончались, и мне предстояло одной переть в холодный, слякотный Нью-Йорк.
Родителям крупно повезло — удалось сэкономить на моем обратном авиабилете. По удивительному совпадению милейшему доктору Шацу тоже срочно понадобилось в Нью-Йорк, и он согласился прихватить меня в своем «Мустанге», оставив жену загорать в приятной компании моих родителей.
Зеленый «Мустанг» доктора Шаца помчал меня на север в бесконечных потоках автомобилей на автостраде, мимо апельсиновых и грейпфрутовых рощ, как золотом, пронизанных шариками зрелых плодов. Началось веселое, увлекательное путешествие в автомобиле, под мурлыканье доктора Шаца, напевавшего под нос за рулем.
Я косила глазом на его прямоносый профиль, на пористую розовую кожу лица, на седые завитки в бакенбардах, на пухлые избалованные губы, сладострастно мнущие кончик коричневой сигары, и начинала подпадать под его мужское обаяние, как это в свое время случилось с моей мамой.
Я смотрела на его пальцы, сжимавшие руль. Розовые пальцы, белеющие у суставов, с редкими рыжеватыми волосиками на фалангах и холеными, чуть синеватыми ногтями. Этими пальцами он рыскал по вялому телу моей матери, добирался до бедер, просовывал в промежность и, возбуждаясь, ласкал их кончиками то самое чувствительное место, откуда в крови и грязи вылезла на свет божий пятнадцать лет тому назад вот эта гадкая, с развращенными мозгами юная особа, сидящая рядом с доктором Шацем на переднем сиденье.
Я решила отдаться доктору Шацу. Маминому любовнику. Чувствительнее удара я придумать не могла.
Ночевали мы в отеле в Джексонвилле, на самом севере штата Флорида, и доктор Шац снял две комнаты. Мы поужинали в ресторане, и нас принимали за путешествующих отца с дочерью. Еще за ужином он заметил странности в моем поведении: лихорадочный блеск в глазах, бледность, сменяемую румянцем на щеках, и обеспокоенно спросил, не заболела ли я?
— Нет, — сказала я.
— Устала в автомобиле?
— Нет.
— Так что ж с тобой, дитя? Ты очень взвинчена, и мне бы хотелось знать причину.
— Причина проста, — с отчаяньем самоубийцы выпалила я, глядя ему прямо в глаза и не видя их, — я хочу вам отдаться. И это произойдет сегодня ночью.