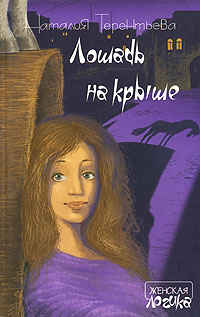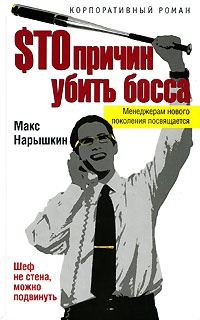Книга Кислородный предел - Сергей Самсонов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из всех фигурантов он Грише наиболее понятен, близок; пусть и с некоторым снисхождением, но Гриша видит в нем существо, во многом родственное себе. Об этом много раз говорено: и он, и Сухожилов работают с одними и теми же энергиями. Вот Гриша меняет ландшафт, осторожно, словно ртуть, перекатывает жирные активы по наклонной, аккуратно изменяя угол, поворачивает нефтяные речки вспять, сливает в тайные хранилища офшоров (благо в виртуальном мире это все происходит мгновенно и ландшафт способен изменяться со скоростью звука), а Сухожилов в это время, рассчитав координаты (а иногда проинтуичив), закладывает бомбу в основание завода, под виртуальной сваей нефтяной платформы, провоцирует тектонический сдвиг. Драбкин по линейке, по лекалам чертит линии, не отрывает глаз от трех мониторов по правилу Эдлера, непрестанно прихорашивает и возделывает свой ландшафт, кверху задом возится на своем бескрайнем растянувшемся в мир огороде. А ему, Сухожилову, скучно возделывать: пробил дыру в земной коре, вскрыл сейф размером с алюминиевый комбинат — пакуйте! Продам за бесценок любому желающему. Короткие деньги, не жизнь — фейерверк. Драбкину — будни, Сухожилову — праздники. Пятнадцать-двадцать лет назад он, Драбкин, работал бы у Сухожилова бухгалтером, финдиром. И когда оставшийся от Сухожилова обрубок извлекли бы из подорванного, раскуроченного джипа, Григорий стал бы владельцем бесхозного, по-черному или по-серому налаженного бизнеса, отмыл бы с мылом, щеткой сухожиловского «трубочиста» добела и стал бы семимильными шагами выбираться на IPO, укрупняться, расти, главным образом, вглубь, пускать в пропитанную кровью землю цепкие драбкинские корни. Столетий пять тому он, Гриша, раздавал бы ссуды и принимал бы гроши в рост, а Сухожилов вместе с Ермаком гонялся бы за Кучумом по Сибири; вернувшись гоголем, героем, швырял бы на прилавок Грише связки соболей, в угаре пьяном не заметив, как остался в одних портках, без шапки, без креста.
Наверное, поэтому сухой и осторожный Драбкин и не может принять до конца адреналин щи ка Сухожилова, чья жизнь неотделима от иррационального, дистиллированного риска. (Там, где Сухожилов, заработав первый миллион, зевнет во всю свою волчью пасть с отрывками свежего мяса на крепких зубах, для Драбкина все только начинается.) Сухожилову жизненно, физически необходимо стояние на самом краю, там, где выше колен начинается пустота; на меньшее, чем воскрешение из мертвых, он не согласен; современный социум не может предложить ему такого края, и он скучает. Не случись в его в жизни вот этих гостиничных «Красных холмов», не встреться и не потеряйся моментально Зоя, то года через три-четыре он уехал бы (да и уедет, видимо) в Сибирь, в ЮАР на поиски какой-нибудь алмазной трубки, чьей пыли хватит, чтобы накормить все голодающее человечество. Куда угодно и зачем угодно, поближе к полюсу, на край земли, лишь бы одно условие там было полностью соблюдено — вот это «упоение в бою».
Любовь вот этого мальчишки с хищным прищуром и волчьим оскалом — именно что мания, одержимость, болезнь. Кого он ищет? Сам-то знает? Гражданку Башилову Зою Олеговну? Если бы. Да не случись вот этого пожара, не выскользни Башилова из рук и не зависни неопознанной между небытием и воскрешением, сдалась бы она Сухожилову. Да он бы через день, через неделю про нее забыл. Оставил бы Нагибину. Нет, Сухожилова волнует, будоражит именно недостижимость. Да вот же, вот, на этом фото с кем он? Кого приобнимает? Фигуристая краля, ласточкины крылья угольных бровей, глаза как «черные брыльянты» — ну чем не Настасья Филипповна? И где она? Выкинул? Конечно, выкинул: семью спаять можно, а приключения, авантюры, мировой гармонии — нет.
Ну что ты хочешь, Сухожилов? «А вот в глаза ей снова — это только». А если не получится в глаза? Ты не поверишь, ты упрешься. Тебе предъявят наравне с Нагибиным и Зоиным отцом все доказательства. Ну хорошо, ты ослеплен, ты болен собственной убежденностью, «Нет, это не она — другая, покажите мне ее». А когда тебе скажут, что показывать некого, — в сто двадцать первый раз, хоть кол на голове теши, — этот яд безошибочного знания проточит в твоем нездоровом, воспаленном мозгу ноздреватые ходы, проникнет исподволь в подкорку, высушит, остудит, выпарит всю трепетную влагу твоей безразмерной и столь же безразмерно глупой веры. Ну, дальше? Без нее — не жизнь? Отказ от пищи — болезнь пубертата, прерогатива ювенильной дурости, когда в ответ на всякое несчастье (какое может быть несчастье? — так, сто двадцать пятая неблагосклонность девочки) тотчас возникает соблазн выдавить немного клюгсвы из запястья. Но ты не дурачок, ты никогда им не был. Для отказа от пищи, Сухожилов, ты слишком ироничен.
Вся штука в чем — вот эта наша форма существования белковых тел имеет одно важнейшее, главное свойство. Она беспрецедентно, до постыдности эгоистична. И никакие христианские идеалы, никакая проповедь самопожертвования, никакое «иди и умри за другого» не растворят, не вымоют, не выпарят из человека этой изначальной довербальной, досознательной самовлюбленности. Если завтра все начнут поступать, как Христос, как Матросов, как Гастелло, как отвергнутый подружкой мальчуган, который, уже наглотавшись таблеток, сам своей решимости не рад (организм отторгает решимость), то численность рода людского очень скоро уменьшится до нуля.
Заблуждение — представлять эгоизм сознательным волением личности, уж тем более «чертой характера». Эгоистично наше тело, наша шерсть на ногах и груди, наши сальные железы, пот, наши камни в почках, наша кровь, наше неугомонное сердце, наша пенистая моча, наше крепкое пещеристое тело, каждый волос, каждая расширенная пора. Там, в гостинице, в пожаре, каяодый был эгоистичен — точно так же, как младенец, который выкарабкивается из материнской утробы, не зная и тем более не думая о том, какую боль он причиняет матери: я жить хочу, дышать, мне нужен воздух, тужься, плевать, что ты не можешь, что ты больше меня не хочешь, должна хотеть и мочь, ведь это я рождаюсь, я, еще, еще давай, желай меня, не сметь сдаваться, через не могу. Подвигин, потерявший свою женщину под теми сводами, — почему он не остался там? Рванул, как лось сквозь бурелом. К ребенку, да, рванул, который у него остался, к девочке, которой он единственный кормилец. Но ведь жить же, жить, отражаться в глазах своей девочки, самому продолжаться; ей без него пришлось бы туго, но он ведь и себя любил. Ей — себя.
Он, Драбкин, знал: никого они не найдут. Уже затребовав и получив все данные от малых и больших руководителей всех ведомств — от Министерства здравоохранения до Министерства внутренних дел, — он знал наверное, без статистических погрешностей, как будто с позиции самого Господа Бога, что Башиловой среди живых пострадавших нет и что сама процедура прощания с ней окажется душеубийственной издевкой для всех троих мужчин. Уже сейчас бы мог сказать об этом Сухожилову, но сознавал напрасность этого шага: ни Сухожилов, ни Нагибин, ни Башилов не успокоятся, не примут, не поверят, пока не пощупают правды «своими руками».
Увы, ни один человек не сделает большего, никто, включая Гришу, не предложит им иного, не выведет Зою под руку из больничного бокса. Да, это в высшей степени неправильно, бессовестно; подумать только, каково отцу, но нет у Драбкина иной возможности. Им это предстоит. Пресловутая «потеря близкого» приводит к временному тромбу, к мнимой, принимаемой за окончательную, остановке метронома-сердца: человек, замкнувшись наглухо, всем существом бросает жить, творить свою историю, и время словно бы действительно бросает течь — по крайней мере, сквозь глухого и цельного, как камень, человека, как будто огибает, обтекает его упрямо каменеющее тело. Вовне, в бурлящем катаклизмами и революциями мире, все мельтешит, меняется; внутри — все встало, как локомотив, домчавшийся до края, до обрыва рельс, взрыхливший мощными колесами пустую землю. Но дальше — дальше в действие вступает тот самый эгоизм, который против воли, против горя неслышно, незаметно размягчает всякого страдальца изнутри, и вот уже, и сам того не замечая, впускает человек в себя безостановочный поток нечистой, запрещенной, непозволительной, недопустимой жизни, и сам того не хочет, но уже стоит за операционным — «сестра, москит и ножницы» — столом, опять подкладывает бомбу под какой-нибудь Байкальский целлюлозный комбинат, разыскивает трубку, чьих алмазов хватит, чтобы накормить все голодающее человечество. В этом страшно признаться, но это знает каждый, кто испытывал: теряя человека после продолжительной болезни, ты вместе с чувством неизбывного горя ощущаешь и другое, стыдное, преступное чувство легкости, освобождения. Так что вот, ребята. Это пройдет. Сможете. Без нее. Не достигнете кислородного предела, при котором дальнейшее функционирование организма немыслимо. Переделать самих себя не выйдет, как никому еще не удавалось.