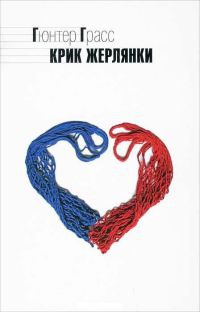Книга Дом образцового содержания - Григорий Ряжский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Заказчик настолько растрогался такому благородству малоприятного ему человека, что определил ту самую третью или четвертую Федькину жену в качестве супруги для самого себя. И увел. А она и увелась с удовольствием, досыта нахлебавшись всякого от лауреата Госпремии к тому времени, когда плод начал толкаться и шалить.
Другими словами, Федор Александрович Керенский недолюбливал детей. И это также являлось интересной особенностью этого бесхитростного человека. Обычно не любят детей чужих: орущих, гремящих, утомительных и несносных. К своим же относятся с терпимостью, искренне ласкают, балуют и даже часто любят. В случае с Керенским формула любви имела внутреннюю каверну и даже составлена была почти наоборот. Федька не любил именно своих детей, к прочим же был вполне равнодушен и перманентно неотзывчив на любые проявления подле себя знаков детства. Ну летит себе воробей и летит. И пускай летит себе дальше, если на голову не насрет. А насрет – тут же своим станет, в иной разряд перейдет, то бишь ненависть получит от скульптора по полной программе. Так вот. Будучи человеком приличным, Федор Александрович никак не мог позволить себе ненавидеть собственных маленьких детей и потому прерывал такое дело на корню уже на уровне задумки. А коли жесткий план обламывался через случайную страсть, даже и к законной супруге, то приходилось лауреату в этом случае применять немерено художественной силы и культурного обаяния, с тем чтобы дело такое пресечь до момента возникновения опасной неприятности и раздражительного эффекта, отвлекающего душу от искусства. Поэтому бабы его и абортировались, кто – раз, кто – сколько, ну а потом, выждав еще недолго, уходили вовсе.
После каждого такого ухода Федюня, отлично понимая основной мотив, недолго угрызался собственной совестью и быстро от темы отходил, потому что так же проворно на художественном горизонте возникал очередной ласковый объект, всякий раз немало превосходящий предыдущий возрастом и видом. И все оборачивалось тем же отыгранным финалом.
– Еще бы потерпела я тебя, Феденька, возможно, – высказала ему, уходя, на прощание последняя жена, самая крайняя к подступившему одиночеству, – если б не пил хотя бы. А когда человек и нетрезв вечно, и детей не желает, да еще в возрасте к тому же, это, милый мой, уже перебор, это очень хорошо понимать надо. Для чего такую жизнь длить с ним надобно, Федя, ради каких таких счастливых компенсаций?
На телевидении работала, тексты писала для первого канала, так что выражаться умела, схватывала суть и доносила без потерь.
Это уже Федьке пятьдесят тогда отбило, и следующий пополз, пятьдесят первый. И полз так до августовского путча, почти до осени девяносто первого. Полз, полз, а к сентябрю притормозил – не в смысле количества, а по разделу качества. Это когда правильные уделали неверных – наши вставили своим же по самые валенки. А ему, Керенскому, как раз заказ на летчика Бабушкина скинули: чудо, чудо, аванс от гонорара, победа наших над своими и уход крайней жены.
Пил по тройному поводу, пока в подмосковном Городище Бабушкина доваявывал. В рост: бронза, шлем, зимние летные ботиночки. Доваял и на радостях отметить решил дополнительно. И отметил. И это была первая настоящая белая горячка, без дураков: с китайскими мандаринами из рода Чипполино, с белоснежным небопланом, пилотируемым исключительно генеральным директором эскадрильи летчиком Дедушкиным, да и с самим дедушкой – председателем Временного правительства и премьер-министром при первом президенте России Звезде Улукбеке, признающим исключительно керенки и не согласным с подменой их отмытыми зелеными крокодилами. Ну и в том же духе…
А когда из горячки вернулся, то ближе к вечеру обнаружил в себе удивительную странность: женщину по-прежнему хотелось, но совершенно не моглось.
«Забавно… – подумал Федька, – чудеса какие…» – подивился он, приняв обнаруженное за проявление очередной открывшейся в нем интересной особенности.
Дальше – больше, так как зуд не возник и на другой день, и через неделю, и спустя две недели, и не сильный, и не слабый, и вообще никакой, а глаза все продолжали отбирать в толпе и в мирной жизни теток и девок на всякий вкус и манер. Причем последние на зов мужской откликались, и многие в охотку, однако в паху зовущего уже не гудело и не паровозило, и единственный накал, что учреждался от подобных романтических свиданий, образовывался лишь посредством питейного градуса.
Так было и на четвертый Гелькин день – первый от нового интересного отсчета. Изначальные два часа, после того как они добрались до Дома в Трехпрудном, Федор Александрович цедил культурно, малыми глотками, выспрашивая Гельку о путях, приведших на Тверскую, и тут же излагая собственные соображения на этот счет. Соображения были важные, поскольку отрицали факт продажности в искусстве вообще, так же как и использование собственного тела в качестве монетарного эквивалента, и не держали последнее за негативное явление, если и то и другое изваяно было надлежащим образом.
– Это должно принадлежать всем, – пояснил он мысль, обозрев Гельку со всех сторон и обнаружив в ней годную стать, – как и скульптура.
Потом он потребовал чаю. Когда Гелька вернулась с кухни с чайником, Керенский мирно спал, опустив голову на стол. И тогда она решила, что отработку тверского тарифа произведет другим способом. Докантовав невменяемого Федю до постели, сама занялась капитальной уборкой до крайности запущенного двухэтажного жилья. К восьми утра все уже сверкало и было расставлено по местам. Кухня – отодрана до изначальности, включая посуду и бугристые сковородки. Ванная – сияла новым кафелем, открывшимся под слоем желтоватого налета. Пыль – все восемнадцать слоев – была уничтожена в результате тройной повсеместной оттирки. Многочисленно же разнесенная по квартире хаотичная стеклотара собрана в едином месте, определенном Гелькой в чулане. Единственно, куда не позволила себе зайти, чтобы прибраться, – хламовая комната на втором этаже по типу мастерской, заваленная сотней картинок и картин, рассованных по стеллажам от пола и до самого потолка. А потом она опустилась на диван и стала ждать, пока проснется хозяин, чтобы получить разрешение уйти.
Проснулся Федор Александрович лишь ко второй половине дня. Проснулся и подивился тому, что обнаружил вокруг себя не привычно засранное жилье, куда притащил вчера девчонку с Тверской блядской точки, а вполне приличную квартиру, аккуратно прибранную и чисто отмытую, в которой сам же до этого и проживал. Он повторно исследовал взглядом вчерашнюю проститутку, и внезапно до него дошло то самое, чему не удалось достучаться в него прошедшим вечером, – лицом девчонка кого-то напоминала ему. Кого-то – чем-то. Возможно, из знакомых. Или картину, может, чью. Или чего еще. Но точно: физиономию ее он видал когда-то. Или откуда-то знал. И тогда он предложил, сразу и без затей:
– Слушай, Гель, а не хочешь пожить у меня? Будешь дом вести, кухня там, прочее. Домохозяйничать, в общем. Выбирай себе комнату, какая больше нравится, и живи. Кормить тебя буду, жилье, само собой, дармовое. А работать – работай, как и до того трудилась. В смысле, на Тверской. Как тебе?
Гелька обдумывать такое дело не стала. К вечеру она перебралась от внучки Рахили в Трехпрудный переулок с единственным чемоданом, в этот красивый старый дом в самом московском центре, полагая, что предложенная преференция, быть может, и есть тот самый фарт, какой выпадает единожды. Так вот затейливо и образно Федор Александрович разложил ей ситуацию. Кроме того, добавил, что на постель пусть не рассчитывает, то бишь на физическую с ним близость, а то выгонит враз. Это грозное предупреждение и решило дело окончательно.