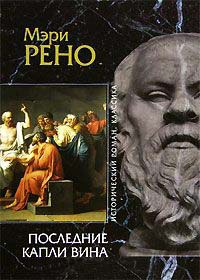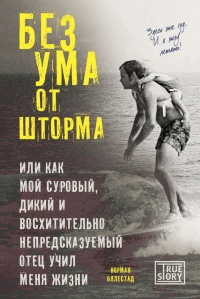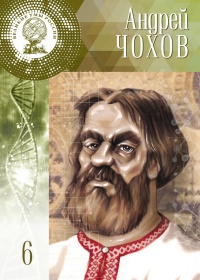Книга Маска Аполлона - Мэри Рено
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Если бы появился Гераклид с обещанными кораблями, они могли бы его задержать; а так Диону оставалось только смотреть на это безобразие. Дионисий мог получать морем всё что хотел; вскоре вернулся и Филист со вторым флотом… Ортиджи хватит еще надолго, но Сиракузы были свободны.
С теми силами, какие были у него, Дионисий мог бы высадиться и атаковать по суше; но он предпочел засесть в крепости. Как выяснилось впоследствии, надеялся договориться с Дионом в частном порядке, как принято у благородных. Архонт полагал, что мотором личной войны Диона была чернь, с которой можно вообще не считаться. Будучи знаком с Платоном, он мог бы получше представлять себе, кто такой Дион. А тот отослал послов назад — и сказал, что не прочёл ничего такого, чего нельзя было бы обнародовать перед людьми. Начались публичные предложения: снижение налогов, переговоры и так далее… А Дион объявил, что если Дионисий отречется, то получит охранную грамоту на выезд. В противном случае, лучшее что он сможет сделать — это сохранить ему жизнь.
Через некоторое время Дионисий согласился обсудить это и попросил послов. Несколько старейшин города пошли; стража возле ворот, вроде, бездельничала; даже кричали людям, что скоро останутся без работы. К закату переговоры еще продолжались; послы останутся до утра. Однако, всё казалось уже договоренным: стража на осадной стене с ленцой несла караульную службу, как и солдаты в Ортидже… А стену надо было еще заканчивать, работы на ней временно прекратились. В полночь распахнулись пятеро ворот Ортиджи, и гарнизон ринулся на осадную стену, на сонных людей.
Визжащие нубийцы, с лицами, штукатуренными под черепа; громадные, голые, раскрашенные галлы, пьяные от неразбавленного вина; надежные, железные римляне — бросились на горожан не умеющих защищаться, не привычных к оружию, да и полусонных. Те с криком бросились бежать. Это был бы конец, если бы не наёмники Диона, которые не стали ждать трубы, а оказались у стены одновременно с ним. Голос его потонул в шуме; но он показался в авангарде и повел людей за собой. Громовержущий Зевс с дротиком, словно Перуном, собирал боевую линию до тех пор, пока щит и панцирь его не покрылись вмятинами сплошь. Даже со свежей раной от копья в правой руке, он сел на коня ободрить сиракузцев; и некоторых вернул в бой. Теперь подошли и люди из Ахрадины; неприятеля задержали на улицах, примыкавших к дамбе; а столкнувшись с этим неожиданным сопротивлением, нападавшие сломались и побежали, многих захватили под стенами. На стороне Диона оказались убиты всего семьдесят пять человек; частью потому, что профессионалы так отлично воевали, а частью потому, что сиракузцы вообще не воевать стали. Они были очень признательны — и предложили солдатам добавочную плату в сто мин. Часть этих денег люди истратили на золотой венок для Диона.
На следующий день послы вернулись. Дионисий хоть и нарушил перемирие, не опустился настолько, чтобы их убить. Быть может, в конце концов, Платон не зря у него побывал.
Третье посольство из Ортиджи обратилось непосредственно к Диону. Он принял его перед народом; ему вручили письма от матери и от жены. Он прочитал их вслух перед всеми; голос не дрогнул; они печалятся, но ни в чём не повинны. В конце концов появилось еще одно письмо; это он попросил прочесть лично, поскольку оно было от сына. Искушение было велико, но печать он всё же сломал. Письмо внутри оказалось не от Гиппарина, а от Архонта; оно сейчас в архивах Академии, я его читал. Говорят, это был удачный политический ход, но мне кажется — это всё он же: эмоции, вздорность, жалость к себе и беспочвенные надежды. Он подробно расписывал годы Диона на верной службе обоим Архонтам, укорял за незаслуженную обиду; клялся, что родня его, и жена, и мать пострадают, если Дион не остановится; просил не швырять священные Сиракузы безумной толпе, которая повергнет город в хаос, а потом его же и обвинит; а в завершение очень красиво предлагал провозгласить Диона Архонтом, если тот сохранит образ правления. Это, наверно, Филист добавил.
Писать Дион посчитал ниже своего достоинства, а послал короткий солдатский ответ. Но письмо оказалось не напрасным. Люди слышали, что такое предложение он получил; наверняка, оно искушает… В винных лавках это обсуждалось. Люди Диона только смеялись; или драться начинали, если были в соответствующем настроении. Они теперь любили его, как отца родного.
Теперь наконец появился Гераклид, с двадцатью триерами и пятнадцатью тысячами войска.
Он надолго подзадержался. Если бы рвался помочь, то пришел бы, как Дион, с чем был. Даже одни триеры, без транспортов с войсками, могли не пропустить Дионисия в Ортиджу. Вряд ли стоит сомневаться, что он рассчитывал застать Диона в беде, спасти всё дело — и взять командование на себя. Чего он хотел потом, — для людей или для себя, — нет его, и никто не скажет.
Так или иначе, он застал Диона победителем; солдаты его обожали, горожане чтили. Чтобы не показаться неудачником, пришедшим к шапочному разбору, Геркалиту надо было что-то делать. Правда, многое говорило и за него: изгнание подтверждало его борьбу с тиранией, и была в нём эта веселая легкость в общении. Контраст замечали все. Но хотя Дион даже в пятьдесят так и не научился разговаривать с людьми легко, я полагаю, он проявлял достаточно такта, чтобы не напрягаться от этого явно; как оно бывает у актеров, насилующих возможности свои.
Все эти парламентеры с Ортиджей кончились ничем; война на суше затихла. Но часть боевых триер Дионисия решила перейти к Сиракузам, и у Гералита оказалось уже шестьдесят кораблей. Однажды он услышал, что Филист пошел к проливам, и решил, что час его славы настал. Флоты столкнулись, Филиста окружили; когда взяли его галеру, он лежал на корме с мечом в груди. Ему было почти восемьдесят, потому не сумел сработать чисто и был еще жив. Гераклид всегда знал, как понравиться, и отдал его на потеху толпе.
Конечно, можно сказать, он знал, чего заслуживает; потому и пытался покончить с собой. Он был правой рукой обоих тиранов, с самого начала. Но о нем можно сказать и то, что он оставался верен сыну, от кого мог взять всё что захочет; хотя отец сослал его по одному лишь подозрению… Что он вообще за оружие взялся в этом возрасте, когда мог бы уплыть куда угодно с мешком золота и умереть в покое, — одно это требовало уважения, пусть и неприязненного. Но что случилось — случилось: это была еще одна смерть Фитона; хотя не было тирана который приказал бы ее, а только вольные граждане Сиракуз. Осадной башни у них не было; да они и не стали бы ждать целый день. Его раздели донага, связали… Из-за раны его нельзя было прогнать по улицам, — так протащили волоком; и каждый прохожий делал с ним, что хотел. В конце, когда стало ясно, что он без сознания и позабавиться больше нечем, ему отрубили голову, а тело отдали мальчишкам. Они привязали его за ногу, сломанную в бою пятьдесят лет назад, и таскали, пока не устали; а после бросили на кучу дерьма. Дион узнал, когда Филист был уже мертв.
Тимонид, который был тогда с Дионом, рассказывал мне после в Академии, что в ту ночь Дион заперся и не спал. Он всегда верил, что честь порождает честь… Он пот свой и кровь свою проливал, чтобы освободить этих людей; в них была часть души его… Нечего удивляться, что когда Гераклит — всеобщий герой — пил с капитанами, Дион к пиру не присоединился. Давным-давно, в Дельфах, когда убили Мидия, я видел, что он этого просто не понял. Он не знал толпу. Он даже сейчас так и не уяснил себе, что представляют собой люди, которым в течение двух поколений приходилось жрать дерьмо. Его не устраивала жалость к ним или ярость к тем, кто их так развратил; он хотел убедить себя, что сама свобода их облагородит. Когда они предали его в бою, он их простил: он был солдат и не слишком много ждал от необученных людей. Наверно, впервые его зацепило вот это убийство. Наверно, он начал раздумывать, что такие люди сами не понимают своего блага; если предоставить их самим себе, они будут страдать хуже, чем при тирании, и опустятся еще ниже… А ведь Сократ учил Платона, — а Платон его, — что лучше претерпеть зло, чем сотворить.