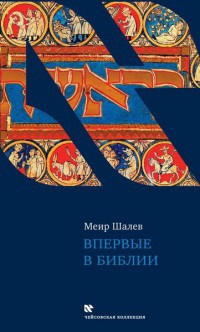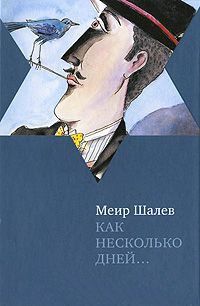Книга Фонтанелла - Меир Шалев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ужасная беременность! — повторила Рахель и вздохнула, и слова выплыли у нее изо рта, без страха и стыда, огибая айсберги тайн, взбираясь на свод живота, раскачиваясь в плаче и тошноте, слова, которые были бы и у меня, если бы создатель наградил меня той смелостью и честностью, которые есть у нее.
Пнина колотила свой живот кулаками, подымала тяжелые грузы, прыгала с крыши коровника на твердую землю, спринцевала матку растворами, о которых сегодня никто не имеет представления, а в те дни женщины рекомендовали друг другу так, чтобы ни один мужчина не услышал.
Две половинки братьев Апупы послали ему отряд своих потомков, которые не отходили от нее. Три раза они возвращали ее из Хайфы, где она ходила по улице Герцля и ошарашивала встречных женщин вопросом: «Где мне найти врача, который делает аборты?» Не столько сам вопрос поражал их, сколько противоречие между его содержанием и холодной, отрешенной красотой Пнины.
— Это ты-то беременна? — сказала ей одна женщина, тропические подмышки которой распространяли запах пота. — Как на мой взгляд, так ты из тех, что даже в сортир не ходят.
Бледная, отрешенная и тем не менее беременная, Пнина пошла к женщинам соседнего религиозного поселка, чтобы те научили ее какой-нибудь молитве. Но религиозные женщины сказали ей, что все молитвы пишут мужчины, поэтому молитв против беременности нет, все они только за.
— Сделай, как мы! — бежали они за ней, когда половинки Апупиных племянников пришли за Пниной и туда. — Сочини себе собственные молитвы, сама!
Иногда Амума видела, как ее старшая дочь сидит молча, не двигаясь, не моргая, не дыша, пока ее пальцы, точно когти хищной птицы, сами собой взлетают над ее животом и вдруг впиваются в него.
— Что ты делаешь?! — кричала она, злясь на собственную беспомощность.
— Я ненавижу их, — сказала Пнина. — Моего ребенка и моего отца, обоих их я ненавижу.
— А Арона? — спросила Амума.
— Арона я люблю.
— Но верность ему ты не соблюла, — сказала Амума.
Пнина молчала.
— А почему не соблюла, один Бог знает, — сказала Амума.
— Один Бог? Я тоже знаю… — И вдруг слова вырвались из нее, теснясь и толкаясь, как овцы: — Потому что я хотела хоть раз в жизни побыть с красивым мужчиной. — И она вдруг начала плакать. — Только один раз. Мне показалось, что мое сердце поднимается к нему вместе с телом, и мы были в Тель-Авиве, в комнате, которая смотрела на море, и пили «Пиммс»[82], как пара англичан, и я знала: только один раз, голубые глаза и белые простыни, а потом я выхожу замуж за Арона, и я люблю, и я верна, и я всю жизнь…
Ее плач был слабым и тонким. Не тем, что сотрясает тело. Не тем, что слышен вне комнаты. И Амума молчала.
— Ты молчишь, мама? — всхлипнула Пнина. — Только с тобой я могу говорить, и тебе нечего сказать?
— Мне? — сказала Амума. — Что я могу тебе сказать? Что я понимаю? Я никогда не была в гостинице, и я даже не знаю, что такое «Пиммс». — И после молчания, короткого для нее и долгого для ее дочери: — Но я всю жизнь сплю с красивым мужчиной, и дело в том, Пнинеле, что привыкают и к этому. Это не такая уж невидаль. Уж конечно, не такая невидаль, как «Пиммс».
И еще через несколько минут она сказала:
— Но не после того, что он сделал с тобой и с Батией, с тех пор нет — и никогда больше.
И все это время пальцы Пнины, скрюченные и когтистые, пытались прорваться сквозь заслоны кожи и мышц, пленок и слизи, чтобы вырвать из себя зародыш и вышвырнуть его вон — но тот держался за стенку ее матки с упрямством и уверенностью куста каперсов.
— Только не сердись на меня и ты, мама, — сказала наконец она. — Хватит с меня молчания Арона, и криком Апупы, и пинаний его приемыша в моем животе.
— Он не его, — прошипела Амума змеиным шепотом. — Он твой, и твой муж примет его. Возьми их обоих и беги отсюда!
Но Пнина сидела с закрытыми глазами, считая клетки своего сына, которые ежеминутно делились и удваивались в ее теле, и чувствуя, как время умножает его кожу и жилы и вздувает завязи его органов и тканей. Не только его руки и ноги чувствовала она, их содрогания и толчки, когда она молилась о его смерти, — она видела его колючие глаза, его неясное, загадочное лицо, его улыбку — улыбку дремлющего в ее чреве дьявола.
— У отца с Ароном есть договор, мама, — сказала она. — А у меня больше нет сил.
И надо же — именно в эти страшные дни, когда Батия ушла в изгнание, а Рахель переписывала стихи и мечтала о своем Парне, а Амума с Пниной маялись, как безумные, а Габриэль постепенно рос и созревал, именно в это время моя мать Хана сподобилась некой меры душевного покоя, того приятного покоя, который даруют своим обладателям здоровье, и работа, и любовь. Ее огород цвел, и, хотя ей приходилось делиться его урожаем с вредителями, ей в избытке хватало овощей для себя. И к тому же Мордехай Йофе каждый день приходил ухаживать за ней.
Долина дивилась: почему он выбрал именно ее? Но поскольку все чуяли, что Мордехай наделен особым талантом к женщинам, то в конце концов сошлись на том, что не иначе как он нашел в ней то самое, «чего не хватает Ханеле», что укрылось от их собственных глаз. И всем не терпелось увидеть, чем это кончится. Даже Апупа, который в прежних подобных случаях немедля запирал замешанную в дело дочь в злополучном бараке, на сей раз никак не препятствовал. То ли устал от семейных скандалов, то ли посвятил весь свой невеликий ум внуку, которому предстояло родиться, то ли и сам догадывался, что из всех его четырех дочерей шансы Ханеле понравиться мужчине уже изначально ничтожны, а может быть, просто из уважения к новому ухажеру, который был «героем войны» и к тому же одноруким.
А сама Хана Йофе ответила на ухаживания Мордехая Йофе свойственным ей образом, то есть немедленной попыткой приобщить его к заповедям вегетарианства. Она читала ему лекции, похожие, я думаю, на те, которые читает сегодня тем травоедам, что приходят к ней «для оздоровления». Она распевала ему о «жизненной силе, заключенной в прорастающем семени», и разъясняла необходимость есть овощи разных цветов — красные, зеленые, оранжевые, — но не все одновременно. И конечно же, говорила о великом запрете, о первородном грехе, о первейшей из заповедей вегетарианства — «не смешивать белки и углеводы».
Отец слушал ее с большим терпением. В ту пору все это казалось ему забавным, а не раздражало, как в последующие недобрые годы.
— Никакой салат не вырастит мне новую руку, — мирно сказал он ей, когда она изложила ему основы правильного питания.
Уже в их первую встречу он заметил лишай, расползшийся по ее бедрам и ногам, а теперь осмелился даже сказать ей, что может его вылечить. В первое мгновенье она помрачнела, потому что не знала, что ее лишай виден чужому взгляду, а в следующее выстрелила: