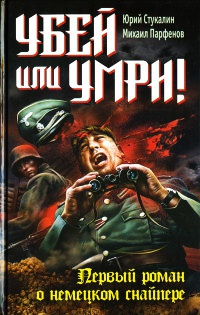Книга В двух шагах от рая - Михаил Евстафьев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Чтоб ты, как минимум, до полковника дослужился, – сказал отец, и махнул рюмку вне очереди.
…все – как в отпуске… словно повторение тех дней… только тогда не
было никакого ранения…
Надо было улыбаться, старался Олег улыбаться, да что-то никак не улыбалось. Пили и закусывали, и расспрашивали об Афгане, Олег коротко, в двух словах отвечал, объяснял, что к чему, не углубляясь в подробности.
– Поживите у нас, Олежа, отдохни, – без особой надежды в голосе, зная заранее ответ, упрашивала мама, – куда тебе спешить? – По тому, как держалась мама за поясницу, и как зачесывала назад, поправляла волосы, скрывая предательски проступающую седину, и по еще большей покорности по отношению к отцу, и глубоким вздохам, по глазам, требовавшим очки при чтении, почувствовал Олег, что два года, пролетевшие для него лично стремительно, для мамы не прошли незамеченными. Отняли два года у матери гораздо больше. Постарела мама, сдала.
…это даже не год за три, это прямо-таки год за пять…
– Побудем недельку, мам, – пообещал Олег. – А потом уж не обессудь. Надо на новом месте устраиваться.
– Тебе, сынок, видней, – мама расстроилась, но ничего не сказала, вышла из комнаты.
– Ты кого-нибудь там знаешь? – спросила Лена.
– Полдивизии. Шутка. Женька Чистяков. Мы лучшими друзьями были в Афгане.
Подчистили с последней рюмкой тарелки, отец, видя, что больше не нальют, да и нечего наливать, все допили, переключился на хоккей по телевизору, сел ко всем спиной, тупо уперся в деревянный ящик с черно-белым изображением. Дед Алексей только плечами пожал, мол, жаль, не договорили, жаль не допили. От чая все отказались.
– Устал с дороги-то, – мама только уложила Настю, вошла в гостиную, кивнула Лене: – Уснула. И вы потихоньку собирайтесь.
– Покурю пойду, – сказал Олег.
– Я помогу посуду убрать, – привстала Лена.
– Справлюсь, – махнула рукой мать. – Иди-иди.
Он отвык смотреть, как Лена раздевается, расчесывает длинные волосы, стоя босиком на полу, без лифчика, отвык смотреть на ее острые плечи, тонкие руки, грудь, шею.
…и в самом деле, будто фарфоровая…
Отвык он лежать на чистых, крахмальных, неказенных простынях, на домашних простынях, пахнущих уютом, чем-то очень родным и давно забытым, под толстым, теплым, шерстяным, домашним же одеялом.
…жена… любимая, чудесная, трогательная, чистая, доверчивая,
родная… не какая-нибудь там размалеванная ресторанная
подстилка!..
…ждала, переживала, милая…
И все знакомо в ней, а восстанавливать по крохам, по крупицам, не сразу. Наверстывать растерянное в разрыве, в расстояниях, целых два года. Непривычно. И для Лены также не сразу все опять на свои места встает. Нужно время. Нужно терпение.
За стенкой раздался отцовский храп. Настя заговорила во сне, Лена подошла к кроватке в углу, убедилась, что она спит, накрыла одеялом. Вдруг она вздрогнула, будто от холода, мурашки пробежали по спине, она сжалась вся,
…как котенок…
обернулась на Олега, нагая и смущенная этим, щелкнула выключателем и юркнула под одеяло, ткнулась ему носиком и щекой в грудь, слегка царапнула сережкой, спохватилась, сняла сережки. Он прижал ее крепко, но почти сразу же испугался, что сильные руки причинят этой хрупкой, маленькой женщине, единственной любимой женщине боль, и ослабил объятия.
…если бы она в самом деле была котенком, то замурлыкала,
согревшись в объятиях…
Как бы успокоившись, что муж дома, слава Богу, вернулся целым и невредимым, насовсем, и пришел конец ожиданиям, волнениям, переживаниям, житейским, бытовым неурядицам, и в то же время как бы благодаря за ласку, и за жалость, и за скупые, но нежные слова, услышанные перед сном, за все то, без чего так долго тоскует отправившая на войну мужа женщина, Лена глубоко и тяжело вздохнула. Вместе – легче, вместе – уверенней, вместе – все можно перенесть.
Прошла вечность с тех пор, как он в последний раз делил с ней постельное тепло, улавливая в темноте близость ее губ, замирая от тонкого, учащенного дыхания, весь напрягаясь, наслаждаясь ее дрожью от томящихся внутри и выплескивающихся наружу желаний…
В подъезде хлопнула дверь. Олег открыл глаза. Отец продолжал храпеть. Фосфорицирующие стрелки показывали половину третьего. В окно светил месяц. Не мусульманский, здесь не могло быть мусульманского месяца, русский месяц, похожий на горбушку белого хлеба. Медленно, чтобы не разбудить Лену, освободил подложенную ей под голову руку. Она не проснулась, лишь перевернулась во сне на другой бок.
Дед сидел на кухне в майке и тренировочных штанах. Обрадовался компании, отложил газету, снял очки, двумя руками поправил назад седые волосы:
– Не спится?
– Заснул, да вот…
– Чай пить будем?
– Я поставлю, – Олег наполнил чайник, зажег от плиты сигарету.
Помолчали.
Два фронтовика. Два офицера.
Кто-то, видать, в их роду, – не одно поколение Шарагиных предано верило в армию, забылось вот только, не осело ни в чьей памяти, не передалось в семейных рассказах, кто именно – какой-нибудь там прапрадед, крепостной мужик, не иначе как ноги широко при ходьбе держал, и выделялся, таким образом, среди служивых шагом необычным, от того-то и прозвали его шарагой; не иначе как, на парадах или смотрах, лучше иных маршировал, или же в походе выносливей товарищей оказывался; потому-то и фамилию придумали ему соответствующую. И сколько километров нашагали по фронтовым дорогам разные Шарагины, сколько войн перевидали, сколько годков посвятили армейскому делу, на благо России матушке?! Не счесть.
Шагал прапрадед, и прадед, и дед, а Олег нынче – летает.
…уж когда как придется…
В Афгане вот в инфантерию превратили десант! По заставам разбросали! Парашюты запретили, и… ша-ом марш!
…все одно, что крылья обрезать птице…
Шагал их предок четко, как часы, без сбоя, и, видать, службу нес также точно, исправно, не занимаясь дурацкими переспрашиваниями, не своевольничая, служил верой и правдой, и умереть готов был за царя-батюшку,
…позднее – за народ, за Россию, за революцию, Советскую власть,
а в целом – за отечество, такое, какое понимал, и любил, в которое
верил, за Родину…
Прорезало, заколотилось:
…а мы за что воюем в Афганистане?..
– Совсем плохи там наши дела? – прервал молчание дед.
– Увязли крепко.