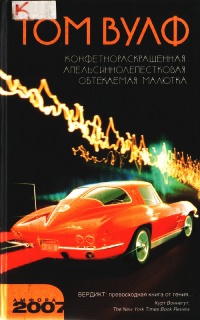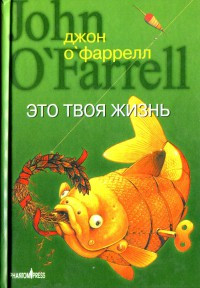Книга Новая журналистика и Антология новой журналистики - Том Вулф
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Сет!.. Шестнадцать!.. Восемьдесят восемь… Пятьдесят пять… Х-ха-раз, х-ха-два… х-ха-а-три!
При счете «три» мяч оказался в моих ладонях. Я развернулся и устремился назад, но тут же почувствовал, что теряю равновесие и… лицом вниз, плашмя проехался по травке. Как будто кто-то натянул у меня под ногами проволоку. Никто ко мне даже не прикоснулся. Что происходит? Комок грязи в траве? Роса? Рот сам собою приоткрылся от удивления. «Ч… что? Как?» — в смятении бормотал внутренний голос. Свисток. Я торопливо поднимаюсь на колени и вижу серебристые шлемы товарищей по команде с синими геральдическими львами. Выставленные для моей защиты барьеры рассасываются. Головы повернуты ко мне. Лиц не видно, но в позах читается явное раздражение. Они шагают назад. Голос старого учителя ворчит в шлеме: «Боров неуклюжий».
Я бегу к толпе.
— Извините, ребята.
— Давай игру.
— Не понимаю, как это случилось…
— Давай!
Третьим номером в моем перечне — вариант сорок второй, один из простейших в футболе. Квортербек получает мяч, во вращении ввинчивает его в живот четвертого защитника, рвущегося прямо вперед ко второй дыре, в центре слева. Простая силовая игра.
И опять ничего не вышло. Снова мне не угнаться за молниеносными профессионалами. Четвертый — Дэнни Льюис — просвистел мимо меня, прежде чем я начал разворот. Мне осталось лишь вжать мяч в собственный желудок и нестись к линии за Льюисом в надежде, что он прорубит хоть крохотную дыру.
Я уже прищуривался, готовясь к столкновению, но не успел даже разогнаться, как врезался в препятствие. Меня схватил Роджер Браун.
Он принял меня на свой гигантский корпус и встряхнул, как тряпичную куклу. До меня дошло, что нужен ему не я, а мяч. И вцепился он не в меня, а в мяч. Шлемы наши почти столкнулись. Я увидел его лицо — первый игрок, которого я узнал в этот вечер. Маленькие карие глаза смотрят на диво мирно, но нос и щеки блестят от пота, он натужно пыхтит. «Это Браун, Браун!» — шепчет внутренний голос. Вырвав мяч, Браун меня уронил, и я шлепнулся на колено, провожая его взглядом в последнюю зону.
Судья не засчитал гол и поставил мяч на десятиярдовую линию. Он сказал, что Браун отобрал мяч в положении вне игры. Браун кипятился: «Как это — вне игры?! Законный мяч!»
За три подачи я потерял двадцать ярдов. А что еще будет!..
Ветераны медленно подтягивались к новому рубежу.
Я застыл в стороне, прислушиваясь, как Браун торгуется с судьей. «Мой гол, все законно. Вы отобрали мой кровный гол», — бубнил Браун. Он озирался на шумящие трибуны и возмущенно воздевал длани. Если бы судья подарил ему этот гол, я даже не смог бы протестовать. Голос школьного учителя исчез, сменился немым отчаянием. Больше всего мне хотелось исчезнуть с поля.
Случайно взгляд мой упал на Бреттшнайдера, откатившегося на свою позицию углового защитника. Бреттшнайдер широко ухмылялся. Я снова почувствовал прилив энергии. Еще не все потеряно. У меня в запасе есть подходящий вариант: «барсучья территория», косой пас на крайнего, Джима Гиббонса.
Шагаю к медленно концентрирующейся «куче».
— Барсук спит. Старый, жирный, ленивый…
Все как будто не слышали. Смотрят под ноги. Я вдруг обращаю внимание на их ноги. Наши ноги. Двадцать две ноги, немалых, по большей части — очень большие. Овал из двадцати двух ног полностью овладел моим вниманием, и я забыл про сигнал подачи. Я автоматически выпалил:
— Зелень, вправо девять, косой, брек!
Жидко хлопнули перчатки, куча рассыпалась, и я услышал чье-то шипение:
— Черт, сигнал, сигнал!
Я забыл «два».
Следовало бы вернуть игроков в кучу, но вместо этого я громким сценическим шепотом просипел:
— Два! — сначала в одну сторону, потом в другую. — Два! Два!
Для тех, кто не услышал, я выставил перед собой два пальца, стараясь показывать так, чтобы не увидел противник.
Получив пас, я сделал два быстрых шага назад (короткий вариант без «защитного кармана») и увидел, что Гиббонс остановился. Его рука — моя цель — поднялась над головой, но мяч почему-то пролетел намного выше. Трибуны взревели. Первая подача, не прерванная судьей — но мяч вылетает за пределы поля.
— Последняя подача! — кричит Джордж Уилсон, стоящий возле судьи с блокнотом в руке. — Бодрее, ребятишки!
Последняя попытка представляла собой вбрасывание, некоторые называют его флипом. Длинная боковая передача четвертому защитнику, бегущему поперек поля. За длинную передачу я не опасался. Надо только не останавливаться, отдав мяч, чтобы не снесли блокеры противника.
Я смог передать мяч и спастись от опекающего брокера, но мою игру разгадали. Мой нехитрый репертуар не составил секрета для противника, и кто-то из линейных сказал мне позже, что Флойд Питерс, стоявший напротив него, уверенно предрек: «Ну, сейчас будет сорок восемь». Так и произошло, и они блокировали четвертого защитника, Пьетросанте, получившего мяч, и снесли его.
Я потрусил к скамье, как только увидел лежащего Пьетросанте. Долгий путь до центровой линии, откуда я увел свою команду. Бежал, едва поднимая ноги, совершенно измотанный.
Трибуны взорвались аплодисментами, и я удивленно поднял голову. Люди вставали, хлопали в ладоши. Никакого презрения на лицах. Как будто за мной медленно ползет открытая машина с мэром, приветствующим своих избирателей. Зрители аплодировали мне, глядя на меня и следя взглядами за моими перемещениями.
Много размышлял я впоследствии над этой овацией. Некоторые, вероятно, приветствовали безумство безнадежной храбрости. Но большинство — хотя бы подсознательно — ощущало облегчение. Мой провал подтвердил, что среднему человеку, любителю, нечего соваться в жесткий мир профессионального футбола. Если бы мне вдруг удалось «распечатать» голевую передачу, они бы бурно приветствовали мой успех, но потом ощущали бы дискомфорт, их беспокоила бы неестественность ситуации.
Многие просто-напросто наслаждались мною как комиком, этаким футбольным Чарли Чаплиной, «рыжим» на цирковом манеже. Бад Эриксон рассказал мне потом о реакции одного своего знакомого. «Бог мой, ничего смешнее в жизни не видывал! — сообщил тот, давясь от смеха. — Молодец парень!»
Я рухнул на скамью, не снимая шлема. Не было сил, да и к тому же хотелось спрятаться, исчезнуть. Нуль на моей футболке, обращенный к зрителям, жег спину. Кто успокаивающе потрепал меня по макушке. Бреттшнайдер наклонился ко мне:
— Ничего-ничего, осилил все-таки… Большое дело!
Я некоторое время следил за полем, на котором сменились составы, повторяя про себя: «Ничего-ничего я не осилил. Позор!.. Завалил, испортил, сорвал…»
После первого тайма Уилсон собрал игроков в оркестровой раковине у конца поля. Я остался на скамье и следил издали, как он, с блокнотом в руке, жестикулируя, объяснял и давал указания. С противоположного торца стадиона взлетали ракеты фейерверка, обращенные вверх лица зрителей окрашивались в разные цвета — красный, зеленый, желтый… Гремела музыка, гудели голоса дикторов, дети зажимали уши. Женский голос выкрикнул мое имя. Я обернулся и увидел девушку, знакомую по Дирборну. На ней были мохеровый свитер, похожий на клок розовой сахарной ваты, и обтягивающие брюки. В одной руке моя знакомая сжимала сумочку и солнечные очки, в другой — флаг со львом. «Так держать!» — возбужденно кричала девушка. Фейерверк отбрасывал серебристый отсвет на ее совсем еще детскую мордашку; я неуверенно поднял руку и помахал ей.