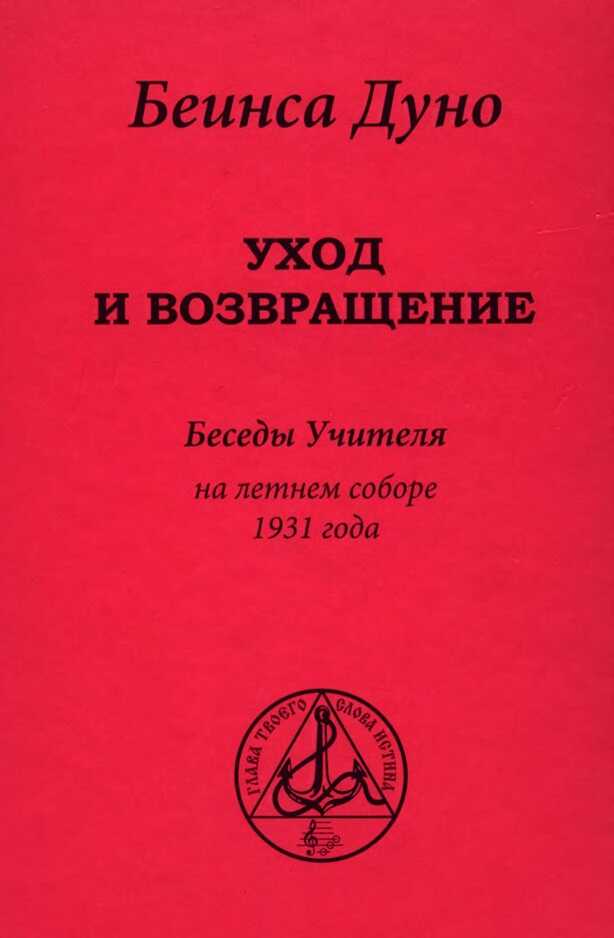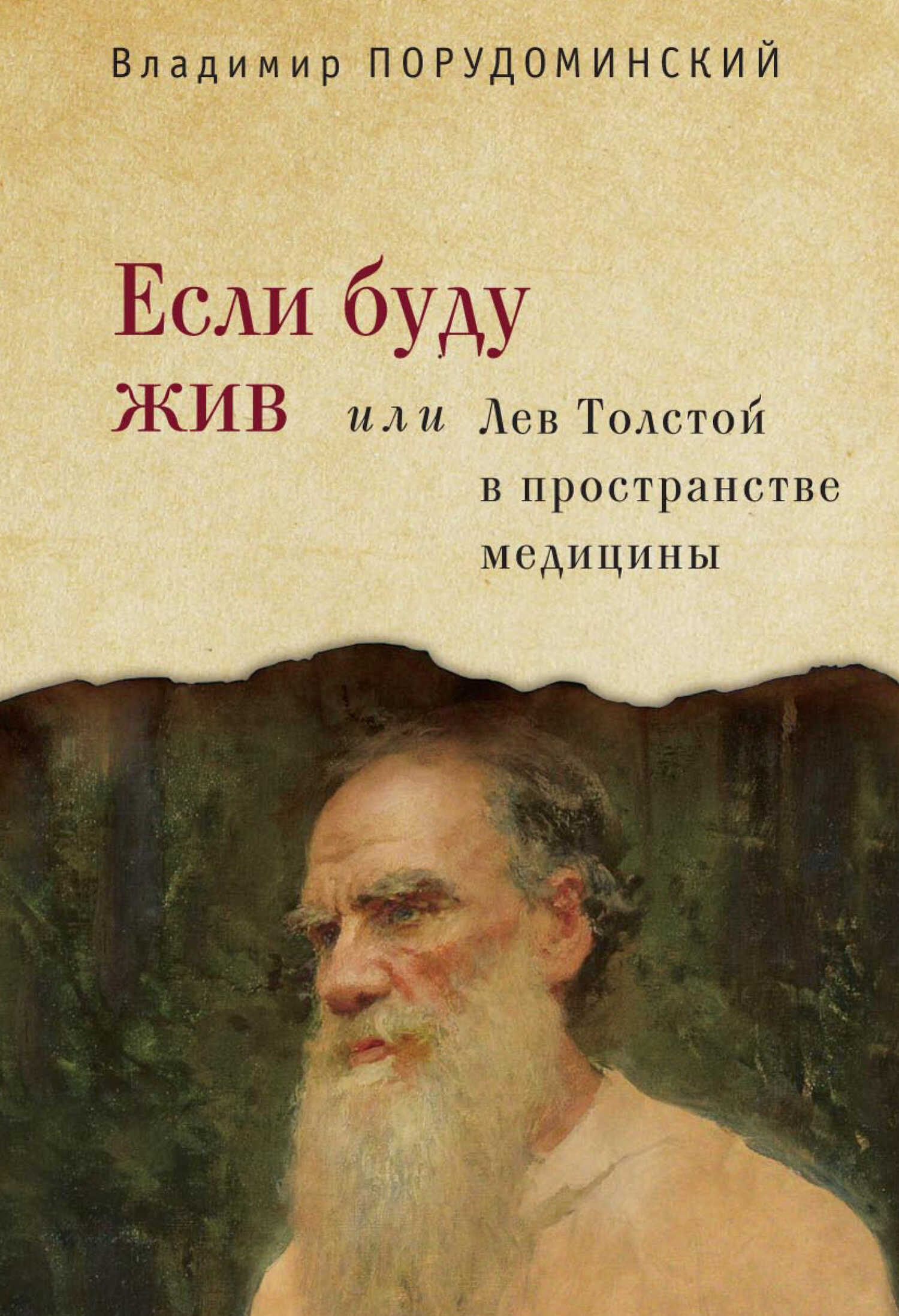Книга Уход Толстого. Как это было - Виталий Борисович Ремизов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Руки, ноги теплые.
В 2.40 начал стонать.
В 3 (40) injectio — 175 гр. Na Chl 0,6 % в берцó.
Кислород. Обкладываем мешками с горячей водой.
В 4.40 Л. Н. заметно тяжелее дышит. Пульса никакого. Цианоз лица и губ.
Все время клали в постель мешки с горячей водой. Родные и друзья стали входить, взглядом прощаться с Л. Н.
В половине 5-го Щуровский вызвал меня, чтобы попробовать дать попить. Я обратился к Л. Н. Он понял, приоткрыл глаза, левый больше, и сделал глоток с ложки. Через час та же проба. Л. Н. проглотил.
Беркенгейм предложил позвать Софью Андреевну.
В 5 другая инъекция — 175 гр. Na Chl в левое и правое бедро. Л. Н. реагировал на боль»[271].
Из «Очерков былого» Сергея Львовича Толстого
7 ноября
«К 12 часам он стал метаться, дыхание было частое и громкое, появилось хрипение, икота участилась. Усов предложил впрыснуть морфий.
Я сидел в углу около стеклянной двери, против кровати, в ногах отца; Чертков сидел у изголовья; врачи тихо входили и выходили. Дверь в соседнюю комнату была открыта. Там сидели несколько человек: сестры Таня и Саша, Варвара Михайловна, И. И. Горбунов, А. Б. Гольденвейзер и другие. Потом пришли братья. Я впал в какое-то мучительное оцепенение. В комнате была полутьма, горела одна свеча, было тихо, только из соседней комнаты слышался сдавленный шепот, изредка кто-нибудь входил или выходил, слышалось только это тяжелое, равномерное дыхание.
Около двух часов по предложению Усова позвали мою мать.
Она сперва постояла, издали посмотрела на отца, потом спокойно подошла к нему, поцеловала его в лоб, опустилась на колени и стала ему говорить: „Прости меня“ и еще что-то, чего я не расслышал»[272].
Из воспоминаний Александры Львовны Толстой
«Меня разбудили около 12-ти.
Собрались все.
Отцу опять стало плохо. Сначала он стонал, метался, сердце почти не работало. Доктора впрыснули морфий, он уснул.
Отец спал до 4 часов утра. Доктора что-то еще делали, что-то впрыскивали. Он лежал на спине и часто и хрипло дышал. Выражение лица было строгое, серьезное и, как мне показалось, чужое.
Он тихо умирал.
Говорили о том, что надо впустить С. А.
Я умоляла не впускать ее, пока отец в памяти. Я боялась, что ее приход отравит его последние минуты»[273].
Из воспоминаний
племянницы Льва Николаевича Толстого Елизаветы Валериановны Оболенской
6 ноября
«Утром 6-го приехали доктора — Щуровский и Усов. Осмотрев больного, они пришли в вагон к Софье Андреевне. Она начала просить, чтобы ее пустили к нему, но доктора сказали, что пока есть хоть малейшая надежда, они не могут разрешить ей этого, так как волнение, которое неизбежно при свидании с ней, может убить его; и дали ей слово, что, как только эта надежда будет потеряна, они придут за ней. Другими словами, она увидит его тогда, когда он будет без сознания и не узнает ее.
Не могу передать, как томительно проходит день. То выходишь из вагона, то опять возвращаешься. Сидим мы молча, да и о чем можно говорить? Жадно набрасываемся на всякого, приходящего „оттуда“, но вести плохие: он очень страдает, бредит, беспокоен, задыхается; ему дают дышать кислородом и впрыскивают камфару. „Зачем камфару? — думаю я. — Зачем мучают, не дают жизни уйти спокойно, опять возвращают — все равно она уйдет, не удержать им ее!“
Но вот томительный день приходит к концу. Мы ложимся спать, не раздеваясь.
[7 ноября]
В четыре часа утра быстро входит в вагон доктор Усов, проходит в купе к Софье Андреевне и говорит:
— Софья Андреевна, я за вами
Значит — умирает! Бедная Софья Андреевна растерялась, заволновалась, дрожит, не может одеться. Фельдшерица и Усов помогают ей. Он берет ее под руку и уводит. Дрожу и я — не от холода ноябрьского утра, а от волнения. По дороге подходят и другие — сыновья, друзья, и в темноте мы молча двигаемся.
Когда мы вошли в комнату, смежную с его спальней, в дверях стояла Александра Львовна; увидя мать, она сказала:
— Вы прямо идете против его желания, он не хотел ее видеть.
Это показалось мне до того чудовищно неестественным, что у меня невольно вырвалось:
— Саша, это невозможно, невозможно не пустить жену к умирающему мужу!
Мы все остались в смежной комнате. В спальне были только доктора, дети, Чертков, который за все время болезни не отходил от Льва Николаевича и которого он вызвал тотчас же по приезде в Астапово.
В обеих комнатах была тишина; тишину эту нарушает Софья Андреевна. Она кому-то начинает опять возбужденно рассказывать всю историю ухода, и опять слышится имя Черткова. Неужели Александра Львовна была права, и ее не следовало пускать? Усов подошел к ней и сказал, что если она будет волноваться, то он принужден будет удалить ее. Она замолчала»[274].
Из книги Павла Ивановича Бирюкова
«Биография Л. Н. Толстого»
«Врач Д. В. Никитин рассказывает в своих записках, что незадолго до кончины Льва Николаевича врачи решили убедиться, есть ли у него еще сознание. Душан Петрович Маковицкий взял стакан воды с вином, поднес его ко рту Льва Николаевича и громко, торжественно произнес: „Лев Николаевич, увлажните ваши уста“. Лев Николаевич приоткрыл глаза, сделал глоток. Таким образом, можно думать, что последними людскими словами этого мира, дошедшими до сознания Льва Николаевича, были добрые слова его верного друга и спутника его последнего путешествия, Душана Петровича Маковицкого»[275].
Из «Очерков былого»
Сергея Львовича Толстого
7 ноября
«Около трех часов отец стал двигаться и стонать. Но пульса уже почти не было, и сознание к нему уже не вернулось. Врачи сделали впрыскивание раствора. Душан Петрович подошел к нему и предложил ему пить. Отец открыл глаза и выпил. Кто-то поднес к его глазам свечу, он поморщился и отвернулся. Через полчаса пульс стал еще хуже. Врачи решили опять дать ему пить. […]»[276].
Из книги
Александра Борисовича Гольденвейзера
«Вблизи Толстого»
7 ноября
«Только что мы, наполовину раздевшись, прилегли — я еще и задремать не успел, раздался стук. За нами прислали буфетчика: Л. Н. стало очень плохо. Было, кажется, около часу ночи.
Мы вошли в дом. Там — полная безнадежность.
Л. Н. задыхается и томится в припадках сердечной тоски. Больше суток почти без перерыва его не оставляет мучительная икота… Доктора, чтобы облегчить страдания, решили дать ему морфий. После морфия Л. Н. несколько успокоился.
Часов, кажется, около двух Г. М. Беркенгейм, ввиду явно безнадежного состояния Л. Н., сказал Александре Львовне, что следует сообщить об этом Софье Андреевне и, если она