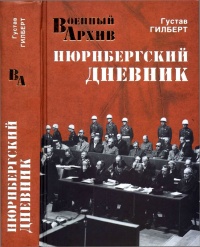Книга Нюрнбергский процесс глазами психолога - Густав Марк Гилберт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Это зависит от того, как это рассматривать. Конечно, после всего того, что произошло, я должен сказать, что все развивалось ужаснее некуда. Но ведь никогда ничего наперед не рассчитаешь. Знаете, в 1934 году я выступал за рыцарское решение еврейского вопроса… Уверяю вас, никто и в страшном сне не мог увидеть, что все это выльется в геноцид.
Камера Шахта.
— Нет, окажись я на месте судей, я был бы крайне смущен. Как вообще можно так беззастенчиво лгать под присягой? У меня нет ни малейшего сомнения в том, что никто из судей ему не верит. Ему вообще никто не верит. Он же мог сказать: «Вот что, господа, можете мне верить, можете не верить, я подписывал то и то, не обращая особого внимания на документы и уж, конечно, не задумываясь ни о каких последствиях. В общем и целом я считаю себя ответственным за то, что происходило, и мой долг состоял в том, чтобы знать обстановку. Сколько и чего мне было известно, это сейчас вопрос чисто академический, и я не вижу никаких оснований для споров но этому поводу». Если бы он заявил нечто подобное, это было бы объяснимо. Но эта постоянная ложь, эти увертки — брр! Для всех нас это действительно неприятное зрелище. Ведь по его милости и на нас будут косо смотреть. В чем разница между ним и Кейтелем? Кейтель хотя бы не лгал.
Что же касалось самого Шахта, он считал, что все кончится сенсацией, и что после того как будут заслушаны его свидетели, выдвинутые против него обвинения будут сняты.
Камера Папена. Увидев меня на пороге своей камеры, Папен покачал головой и рассмеялся. Чуть погодя он сказал:
— Думаю, нет сомнений в том, что Кальтенбруннер не так плох, как его предшественник Гейдрих; но кто поверит, что он и действительно ничего не знал? Он отрицает все вплоть до сделанных его рукой подписей на документах!
И тут Папен снова неожиданно расхохотался:
— Я заметил, что даже шеф полиции безопасности напоследок решил поиграть в министра иностранных дел и поискать переговорщиков в нейтральных странах. Все это можно было бы рассматривать как комедию, если бы только это не было трагедией.
Камера Франка. Неотличимая от клятвопреступления защитительная речь Кальтенбруннера стимулировала Франка на признание собственной виновности и обвинения в адрес Гитлера. Как только я оказался в его камере, он, горестно воздев руки к небесам, воскликнул:
— Ах, Боже праведный! Вы слышали, как он сидел и повторял, что ничего не знает? Вы слышали, герр доктор? Он сидел и хладнокровно клялся, что ни о чем не знал!
Задавая мне эти вопросы, Франк выделял голосом каждое слово, затем прикрыл глаза, будто не в силах выдержать душившего его стыда.
— Может ли ему поверить хоть кто-то? Я знаю, что судьи ему не верят. Я пошел к самому Гиммлеру и потребовал от него объяснений по поводу этих всех ужасов, о которых твердил весь мир, тот, естественно, налгал мне с три короба. Но Кальтенбруннер наверняка обо всем знал. Он даже дошел до того, что стал утверждать, что, мол, совершил акт предательства — вы слышите? Он заявляет, что пытался договориться с нейтралами, поскольку понимал, что война все равно проиграна, и несмотря на это продолжал тысячами отправлять в концлагеря немцев по обвинению в пораженчестве. Я помню, чего мне стоило вытащить из концлагеря одного моего сотрудника, а этот теперь сам выдает себя за пораженца. Если бы он им был, это стало бы его худшим преступлением — потому что вместе с фюрером до самого конца, пока все не рухнуло, он продолжал гнать на погибель молодых немцев.
Я спросил у Кейтеля, сколько солдат погибло за эту войну. Он ответил мне:
— Два с половиной миллиона. Вообразите себе эту цифру! А они продолжали проливать молодую немецкую кровь! А теперь каждый утверждает, что уже начиная с 1943 года никто не верил в победу. Боже всемогущий! И потом, когда ему был зачитан отрывок из моего дневника, он нагло отрицает, что являлся непосредственным начальником Крюгера (шефа полиции в Польше). Уставился на меня и говорит, что нет, потом сказал, что вынужден был это отрицать. Но если бы я стал это отрицать, это означало бы для меня одно — клятвопреступление. Ведь это факт. С какой стати пытаться его оспорить?
Нет, сохрани Бог, чтобы я поднялся и начал вот такое лживое представление! Нет, сейчас я рад, как никогда, что все-таки решил передать мои дневники. Сколько мне пришлось выслушать упреков от остальных, но я рад. Миллионы немцев погибли по вине этой системы, и теперь, когда речь зашла об их собственных головах, они сидят и лгут, пытаясь скрыть правду. Я не верю и в то, что Геринг придерживается правды. А Риббентроп — какой же это убогий спектакль! Кейтель, ну тот хоть не скрывал правды. Но этот Кальтенбруннер — скажите, ну верит ему хоть один человек здесь? Как вы лично считаете?
— Похоже, все придерживаются единого мнения — он лжет, — ответил я.
— Разумеется, лжет, и это ужасно. Меня это чуть с ног не сбило. Говорю вам, сейчас меня ничто не собьет с курса, выбранного мною в самом начале. Сегодня вербное воскресенье, и я поклялся на кресте, что буду говорить правду, одну только правду, ничего не утаивая. Но мне вот о чем хотелось бы вас попросить, поддержите меня, если остальные накинутся на меня. Неважно, конечно, что они там подумают. Я дал клятву и должен сдержать ее, и пусть мои религиозные убеждения всего лишь иллюзия, они необходимы мне, они придают мне силы, и ничто не поколеблет меня. Но вы же знаете остальных, видите, как они ведут себя, когда мы все вместе сидим на этой скамье. Мне очень хотелось бы чувствовать вашу поддержку.
— Как я вижу, вы вернулись к своей первоначальной точке зрения. Я заметил, что вы проявляли колебания.
— Да, вы должны понимать, как это бывает иногда. Очень тяжело месяцами находиться вот здесь, в этой камере, ощущая на плечах бремя вины, когда вокруг тебя такие же виновные, которые тоже страдают, пытаешься отыскать хоть какой-то выход, обрести поддержку ближнего. И потом, я вообще человек слабый…
— Геринг все время пытается запутать вопрос о виновности, разыгрывает из себя германского героя, а все остальные должны ему в этом помогать.
— Я знаю — а меня он не поддержал ни разу. Он мог это сделать, чтобы помочь мне, когда Гитлер после моих критических замечаний отказался присвоить мне эсэсовский чин. Но Геринг и пальцем не шевельнул. А теперь ему захотелось, чтобы я поддерживал эту систему. Нет, я понимаю, что судьба уготовила мне оказаться здесь, чтобы я здесь разоблачил зло, которое во всех нас. И пусть Бог даст мне силы разоблачить его. Вы должны поддержать меня, герр доктор. Я должен исполнить то, что собираюсь, но о чем я вас хочу попросить, это чуточку моральной поддержки. И еще, до того как все закончится, может быть, вы были бы так любезны, что навестили бы мою семью, посмотрели бы, чтобы они не страдали за содеянное мною…
15 апреля. Показания Гесса
Утреннее заседание.
На утреннем заседании Гесс давал показания об уничтожении под его руководством 2,5 миллиона евреев в концентрационном лагере Освенцим. Уничтожение осуществлялось по приказу Гиммлера, который в свою очередь руководствовался указанием Гитлера об окончательном решении еврейского вопроса. (Гесс произносил показания равнодушно-деловым, лишенным эмоций тоном, в точности таким же, как и в беседе со мной у себя в камере.) Доставка евреев осуществлялась железнодорожным транспортом из разных стран. Пригодные к работе распределялись по рабочим отделениям, остальные, в число которых попадала большая часть женщин и детей, сразу же направлялись в газовые камеры. Если матери пытались спрятать на себе маленьких детей, они отбирались и также отправлялись в газовые камеры. Золотые зубы и серьги снимались с трупов отравленных газом заключенных, а переплавленное золото отсылалось в министерство экономики. Женские волосы упаковывались в тюки для последующего промышленного использования.