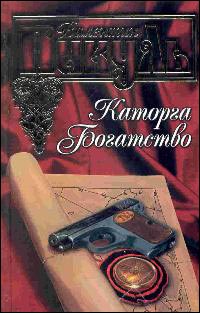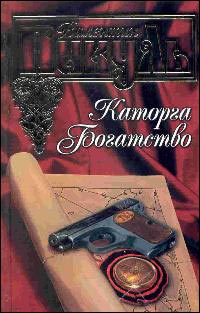Книга Баязет - Валентин Пикуль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Да, это была правда — глаз Кирюха имел некрасивый, с желтоватым зрачком, словно у рыси, но и зоркий; особенно остро видел он правым — боевым. И больше всего любил он в жизни две вещи:
хрустящие горбушки от хлебных караваев и вот такие горячие моменты, когда вся прислуга повинуется его возгласу:
— Правее станок… ударь вправо! Еще, еще…
— Отскочи! — кричит фейерверкер.
Кирюхино сердце, здоровое сердце крестьянского парня, мерно выстукивает время, надобное для полета снаряда. Часов, конечно, Кирюхе во всю жизнь не иметь, и считает он секунды лишь ударами своего сердца.
— Шесть, — говорит Кирюха, — приходи, кума, любоваться!
Кто-то пустил по крепости слух, что за отличную стрельбу Пацевич выделил батарейцам полведра воды, и юнкер Евдокимов, терзаемый жаждой, побрел на задний двор.
Конюхи потерянно бродили вдоль коновязи, старались убрать все ведра, один вид которых приводил животных в неописуемую ярость. Они били копытами о твердую землю, тихо ржали, стараясь хватить человека губами за платье, чтобы напомнить о себе: ведь они-то ничего не знали об осаде, и, наверное, им, бедным, казалось, что о них просто забыли эти двуногие повелители, на которых они так славно трудились…
— Где же майор Потресов? — спросил юнкер.
— А эвон, на батарее…
Евдокимов с удивлением проследил за тем, как странно сегодня ведет себя артиллерист. Старый офицер, обычно такой скромный и по-солдатски осторожный, сейчас словно решил поиграть со смертью, которая кружилась вокруг него.
Рискуя угодить под глупую пулю, Евдокимов выскочил на середину двора, схватил старого офицера за локоть:
— Николай Сергеич, это ведь никому не нужно. Мы и так знаем о вашей смелости. Уйдемте отсюда, уйдемте…
Потресов обернулся, и лицо у него при этом было каким-то отвлеченным, словно он уже заглянул туда, откуда никто не возвращался. Сразу как-то сникнув и сильно побледнев, Потресов покорно дал юнкеру увести себя в укрытие. Они прошли в опустевшую кухню, заваленную черепками битой посуды, и присели на корточки возле обшарпанной грязной стены.
— Зачем вам это? — добавил Евдокимов, жалея старого офицера острой жалостью своей немного наивной души.
Майор жалобно всхлипнул, на добрых глазах его проступили слезы:
— Я уже старый дурак. И вам этого не понять. Только вот беда — пули-то не берут меня, не трогают… А мне — надо! Хотя бы одну… Молю бога, чтобы не в живот только, тогда мне не выжить. Не для себя надо — для послужного формуляра надобно!
Тогда-то пенсион мне, голубчик, уже выше пойдет. Хоть на старости лет кусок хлеба иметь буду…
Евдокимов, в душе которого сейчас острая жалость боролась с презрением, медленно поднялся, обтирая спиной грязную стенку.
— Я вам… противен сейчас, да? — понуро спросил Потресов.
Вбежал растрепанный, забрызганный кровью фейерверкер:
— Ваше благородие. Кирюху-то… Кирюху-то нашего!
— Что с ним?
— Кирюху-то, говорю, зараз вранило.
— Он жив?
— Его сюды вот, — чмокнул фейерверкер губами, — прямо аж сюды турчанка поцеловала! ..
Раненого канонира втащили под укрытие. Лицо Кирюхи было в крови, бормотал он что-то, хлюпал. Вытерли кровь: отделался парень сравнительно легко, — пуля прошла под самым его носом, сильно распоров верхнюю губу, еще безусую, совсем юную.
— Эх, родимый, — пожалел его Потресов, — не уберегся…
Канонир мычанием и жестами показал, чтобы глаза ему не заматывали: он в госпиталь подыхать не пойдет, при батарее останется. Глаза ему нужны будут — станок правее, станок левее, он это еще сумеет! ..
Правдив ли был тот слух о полуведре воды, выданном батарейцам, так и не узнал юнкер Евдокимов, но попросить глоток воды постеснялся и решил ждать ночи.
— Ночью-то мы, господин юнкер, напьемся водицы, — посулил ему солдат Потемкин. — Только бы ночка потемней выдалась, а уж там-то мы дорогу найдем!
5
Восьмой по счету сын поглупевшего от пьянства дьячка из деревни Нижние Сольцы, Корчевского уезда, Тверской губернии, — как ему страшно сейчас! И он понимает пренебрежительную холодность экзаменаторов, — ведь он сейчас в их глазах смешной и зарвавшийся выскочка, который с порога мужицкой избы дерзает лбом отворить позлащенные двери академии Генерального штаба.
— Тейлорова и Маклонерова теоремы, — говорят ему. — Есть два решения: одно, предложенное Буняковским, и второе — академиком Остроградским.
Одноглазый академик грузно поворачивается в кресле. Перед ним услужливо ставят стакан с водою, и почтенное мировое светило окунает в него желтые от табака пальцы, промывая слезящуюся язву пустой глазницы.
— Вопрос несложный, — говорит академик. — Дано вам десять минут на решение обеих теорем.
Да, вопрос несложен для вас, господа. Но как он сложен для него, бегавшего в соседнее село к отставному солдату, который учил его «буки-веди-глаголь-добро». Время летит быстро, розовый мелок крошится в пальцах, в стакане перед экзаменатором уже плавает какая-то противная муть…
— Я не могу… помогите мне! Помогите… Помогите мне! Помогите…
Некрасов очнулся от собственного стона и с трудом разлепил глаза. Над ним висело высокое небо, и несколько курдов в одежде из верблюжьей шерсти, с башлыками на головах, кружком сидели невдалеке.
— О-о-о, — невольно вырвался стон, и курды, распластав широченные рукава, поднялись на воздух и улетели: это были не курды, а громадные грифы рыжего оперения, алкавшие человеческой крови.
Беспамятство перемежалось с бредом, и в горячечном бреду он переносился с Английской набережной Петербурга в высокий шатер полковника Хвощинского, который со смехом лил ему чихирь в долбленую азарпешу.
— Что со мною? — сказал штабс-капитан и только сейчас заметил, что лежит на земле абсолютно голый. Мародеры, приняв его за мертвого, содрали даже подштанники. В этой наготе было что-то жалкое и унизительное для человека.
— Какие подлецы… Боже мой, какие подлецы!
Некрасов стиснул челюсти, но обида на людей и страшная боль, рванувшая тело сразу в трех местах, вызвали невольные рыдания.
Тогда он понял, что лучше не сдерживать себя, и дал полную волю слезам, лежа на спине и глядя в пыльное небо. Потом, когда слезы оттянули досаду, Юрий Тимофеевич привстал на локте и внимательно огляделся.
Вокруг него в жутком безобразии валялись мертвецы: они, как и он, были за ночь уже раздеты донага, причем были ограблены даже турки и курды. (Мусульман Некрасов отличал от своих солдат по красным и зеленым шнуркам, стянутым на запястьях: это были священные амулеты, повязанные их женами и матерями.)
— Неужели я остался один? ..