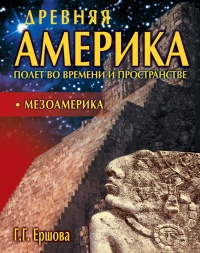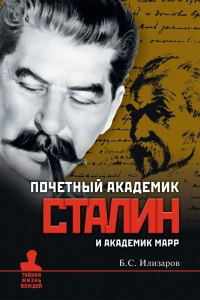Книга Эдинбург. История города - Майкл Фрай
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
И все же, прожив столь недолго, Роберт Фергюссон остался в памяти братьев-шотландцев как тот, кто смог дать простонародной музе новую жизнь, продолжив дело Рамсея-старшего. Побывав у могилы Фергюссона в Кэнонгейте, Роберт Бернс написал для него эпитафию (почему-то на английском).
И Бернс, и Фергюссон хорошо знали, что оба принадлежат к партии дьявола. Однако Бернс, в отличие от Фергюссона, был сельским парнем, охваченным благоговением перед столицей. Этим во всяком случае объясняется безжизненный неоклассический стиль, в котором он считал подобающим писать в Эдинбурге, где бывал наездами в 1786–1788 годах, как, например, в вымученной хвалебной песне столице «Эдина! Трон шотландской славы!», или в элегии на смерть второго лорда-председателя Арнистона, «Перенесем ли тяжкую утрату?», которую Дандасы, по понятным причинам, не потрудились даже заметить. Бернс, обласканный в столичных салонах как «боговдохновенный пахарь», без сомнения, пытался дать аристократической аудитории то, чего, по его мнению, она от него ожидала: поэзию «правильную» — то есть написанную на английском и согласно классическим канонам (подобно тому, как была «правильна» архитектура Нового города). Можно задаться вопросом, не становился ли постепенно подобный классицизм ширмой для бесплодности.[264]
Это чувствовал и сам Бернс. Лучшим произведением, созданным им в Эдинбурге, было обращение «К хаггису», все еще популярное сегодня благодаря невинной иронии, с которой Бернс пишет о простых земных радостях шотландцев, и тому, что хаггис входит в традиционное меню «ужина Бернса» как непременный атрибут. В реальной жизни он также время от времени нуждался в том, чтобы отправиться в загул, и тогда напивался и соблазнял служанок, своих Мэй Кэмерон или Дженни Клоу. Принимавшие его у себя знали об этом; это приводило их самих, в особенности их жен и дочерей, в трепет. Когда Бернс встретил миссис Агнес Маклиоз, племянницу судьи лорда Крейга, оставленную заблудшим мужем, между ними вспыхнул бурный роман. Их чувства главным образом находили выход в письмах; Бернс подписывался именем «Сильвандер», Агнес — «Кларинда». Мы не знаем, привел ли этот куртуазный роман к постели. Как Бернс ни был приятен в гостиной, в будуар его скорее всего так и не пустили. Кларинда разорвала отношения с ним (что бы это ни были за отношения), когда узнала, насколько сладострастным мог быть Сильвандер. Единственное, что осталось от этого романа — одна из величайших песен Бернса, «Поцелуй — и до могилы…»[265]
В салонах Бернсу оказали такое внимание, какого никогда не оказывали ни Фергюссону, ни еще одному поэту, жившему тогда в Эдинбурге — Дункану Бан Макинтайру. Макинтайр сочинял стихи на гэльском — и существовали они только в устной форме, поскольку он был неграмотен. Он родился на границе Аргайла и Пертшира, откуда гэлы могли легко переселиться в центральную Шотландию, когда прежний образ жизни прекратил существование; изгонять их не пришлось. Свидетельств о внутренней миграции шотландцев после Куллодена имеется очень мало, однако несколько наблюдателей отмечали, что все больше и больше непритязательных горцев выполняли теперь обязанности слуг и прочую малооплачиваемую работу. Они влились в общество Эдинбурга, и в городе даже появилась гэльская часовня — в 1767 году, примерно тогда, когда туда прибыл Макинтайр. К этому моменту его произведения уже были опубликованы благодаря помощи собрата-якобита, барда Аласдэра Макмейстера Аласдэра. Это было не важно. В столице Макинтайр превратился в еще одного крестьянина на бесперспективной службе в городской гвардии (без сомнения, он все же был за нее благодарен, поскольку ранее привлекался к суду за незаконное производство виски и не мог рассчитывать на многое). В своей «Oran Dhùn Eideann» («Песне об Эдинбурге») он в своей беспечной манере бросал трезвый взгляд на джентльменов, которых ему полагалось охранять:
Или, точнее, на их дам:
Только в двух строках своей поэмы более чем в триста строк Макинтайр позволил себе намекнуть на прежнюю власть — здесь, в храме поклонения Ганноверскому дому. Он говорит, что в Эдинбурге есть
* * *
Вот и все подлинные народные голоса эпохи возведения первого Нового города. Едва ли их было больше в эпоху второго Нового города; тогда они уже изъяснялись прозой. Когда Александр Сомервиль уехал в Эдинбург из Берикшира в 1825 году, в экономике начался спад (тот самый, который разорил Скотта). У него была работа на лесопилке; однако другие работники встретили чужака весьма неприветливо — «несколько раз они говорили, что мне могут проломить голову и меня найдут мертвым в Каугейт-Берне». Сомервиль считал, что будь они уверены, что найдут другую работу, они бы забастовали, «но поскольку все было далеко не так, и столько людей оказалось на улице из-за безработицы в ужасных лишениях, они были бессильны». Впоследствии они наконец смягчились и приняли его в свое «братство» на том условии, что он напоит всех виски. Потом Сомервиль перешел на работу в питомник в Инверлите: «Мы жили в бараке, по утрам получали немного жидкой овсяной каши с родом прокисшего кефира, что готовят только в Эдинбурге, картофель с солью и иногда по селедке на обед, тот же кефир и овсянку на ужин. Мы никогда не ели мяса и редко — хлеб». Он зарабатывал по шесть шиллингов в неделю, но тратил на самое необходимое не более четырех. Остальное он откладывал на образование, «часто просиживая до полуночи или вставая на рассвете летом, чтобы читать, писать, заниматься арифметикой и другими науками; также нельзя было обойтись без трат на книги, бумагу и чернила. Также в то время нельзя было не покупать газеты. В парламенте рассматривали билль о реформах». Такова была политическая сознательность шотландского рабочего.[267]