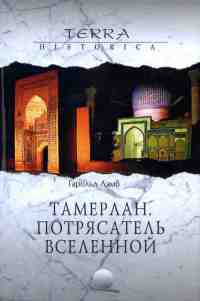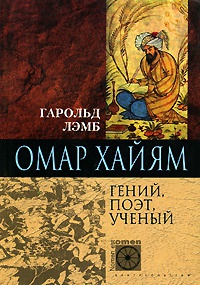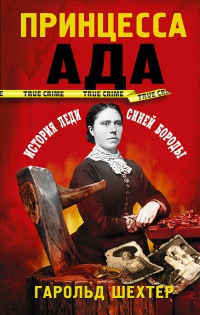Книга Западный канон. Книги и школа всех времен - Гарольд Блум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Фантазии об изгойстве перемежаются с дьявольскими негациями: это череда испытаний и искушений, сопутствующих участи спасителя. Чудесный последний раздел уитменовской ночной поэмы начинается словно с описания картины Уильяма Блейка:
Волшебное слово для «ночного» Уитмена — «прошел», и спасение для него заключается в том, чтобы быть прохожим. Все беспокойные спящие просыпаются в квазивоскресении: «Они проходят через бодрящую силу ночи и химию ночи и пробуждаются». Наблюдая эту картину, Уитмен дарует себе и своему стихотворению величественное примирение в качестве развязки:
Тут упоминаются только мать и ночь — но смерть подразумевается всем текстом. В этом пассаже все равно чувствуются неуверенность и страх, но разве может быть иначе? В лексиконе древних гностиков, к которому Уитмен тут таким удивительным образом приближается, ночная бездна — это праматерь, а творение из бездны привело к падению. Не претендуя на всезнание, Уитмен сознательно идет на риск — попасть в цикл смертей и воскрешений. Его гнозис — в том, что он пришел хорошо, пойдет хорошо и затем восстанет. Мрачный контраст с нетвердой верой Уитмена составляют отчаянные заявления Лира, обращенные к Глостеру: «Будь терпелив. На свет приходим с криком; / Понюхав воздух, тотчас начинаем / Кричать и плакать…» и «Когда родимся мы, кричим, вступая / На сцену глупости». Пафос Уитмена — в том, что его еще несовершенный гнозис пока не слишком далеко ушел от трагических возгласов Лира. В «Песни о себе», начиная с 38-го раздела, делается попытка выразить более совершенное знание. 41-й раздел строится на верной догадке Уитмена о том, что все боги, в том числе Иегова, когда-то были людьми, и возвышается до великолепного кощунства:
Против них Уитмен выставляет то, что надлежит сделать в свой срок ему: «Сверхъестественное — не такое уж чудо, я сам жду, чтобы / пришло мое время, когда я сделаюсь одним из богов…» В 23-м разделе приятие Христа помещено в контекст приятия множества богов, а в заключительных разделах поэмы отбрасываются все духовные тревоги. Блокнотные наброски проясняют амбиции Уитмена: «Я сам жду, когда придет время мне стать Богом; / Я думаю, я сделаю столько же добра и буду таким же чистым и колоссальным, как всегда». Невозможно представить себе более откровенного изложения замысла Уитмена, чем блокнотный черновик 49-го раздела: «У нас есть то, в чем больше всего от Бога; у нас есть человек», и еще: «Я не могу помыслить создания чудеснее, чем человек». Провозглашенную Джозефом Смитом мормонскую доктрину усовершенствования человека до Бога Уитмен независимо от него наглядно представил в своем герметизме.
Уитменовский вариант американской религии держится на самом самобытном аспекте «Песни о себе» — духовной «карте», согласно которой мы все состоим из трех компонентов: души (soul), себя (self) и подлинного Я (real те или me myself). Я пользуюсь терминами самого Уитмена, которые не сводятся к фрейдовским или каким-нибудь другим психологическим категориям. В первую очередь Уитмен разделяет «душу» и «себя»: душа, подобно телу, в очень большой степени является частью природы, природы несколько отчужденной. Под душой Уитмен понимает характер (или этос), противопоставляемый «себе», то есть личности (или пафосу). Характер действует, а личность страдает, даже если речь идет о приятном страдании от страсти, высокой или низкой. Поэтому когда Уитмен говорит «моя душа», он имеет в виду свою темную сторону, отрешенный, или отчужденный, компонент свой природы. Когда он говорит о «себе», как в названии — «Песня о себе», он имеет в виду то, что называет Уолтом Уитменом, американцем, буяном, явно агрессивным мужчиной.
Но «сам» Уитмен, как он с готовностью признает, разделен надвое. Есть еще утонченная, женственная часть «себя», которую он называет «подлинным Я», или просто «Я», «Я сам», и отождествляет с могучим квартетом ночи, смерти, матери и моря. Уитменова душа непознаваема по своей природе, это в некотором роде пустота, буйная же личность — образ, или маска, бесконечно подвижная череда отождествлений. Но подлинное Я — не просто познаваемая сфера, но самая способность к познанию, что-то вроде гностической способности субъекта познавать, подобно тому как он сам познан[344].
Уитменовская мифология души и двух частей «себя» вполне стройна, пусть и сложна. Он мог бы назвать свою главную поэму «Песней о душе», но не имел никакого желания этого делать — так же как не хотел называть ее «Песней о подлинном Я». У Уитмена есть великие песни о подлинном Я, и к ним относятся «Спящие» и «Когда жизнь моя убывала вместе с океанским отливом». Даже элегия «Сирень» — это в огромной мере песня о подлинном Я, хотя она тяготеет к тому, что в ней называется «в один голос с моей душой», к проявлению непостижимой природы.
«Песня о себе», самая амбициозная поэма Уитмена, — это самый обстоятельный, хотя и все равно неполный, рассказ о взаимоотношениях Уитменовой души с двумя частями «себя». «Я славлю себя», — начинает он, имея в виду, что его герой — Уолт Уитмен; в 1856 году он назвал эту поэму «Поэмой об Уолте Уитмене, американце». В четвертой строке он зовет свою душу и продолжает звать ее в 5-м разделе, но лишь после того, как Я, которое никогда не зовет душу, удостаивается прекрасного описания в 4-м. Эти строки часто кажутся мне лучшими в «Песни о себе», во всяком случае, самыми чарующими; они предвосхищают лирических героев Т. С. Элиота и Джона Эшбери. Вот, — внезапно говорит Уитмен, — не буян Уолт, а подлинное Я: