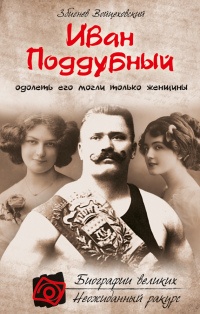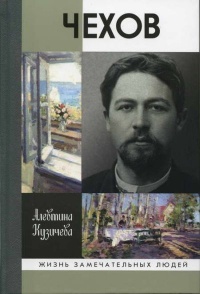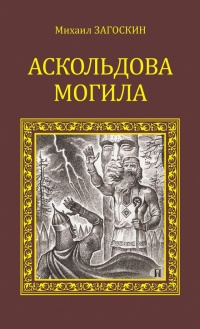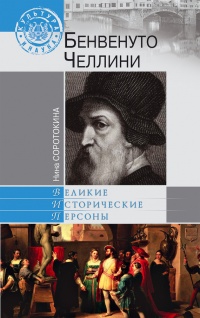Книга Иван Бунин - Михаил Рощин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сам не зная зачем, он кое-что записывал из рассказов Марии Павловны и Евгении Яковлевны — коротко, в записной книжке. Если бы Чехов услышал об этом, наверное бы, рассердился. Но здесь нельзя было не думать о Чехове, хотелось узнать его и понять. Между ними и без того возникло понимание; кажется, давно не встречался человек, к которому Бунин испытывал такую увлеченность и юношескую любовь. Чехов — он видел — при всей своей сдержанности тоже увлекся Ваней Буниным, выделив его среди других и приблизив. Они с наслаждением обнаруживали друг в друге один и тот же взгляд на вещи, иронию, любовь к одним и тем же явлениям, книгам, предметам, людям. При всей экзальтации и стремительности одного и при всей приглушенности и ровности другого, ни с кем иным, несмотря на разницу в возрасте, нельзя было испытать такой радости общения, остроты, возбуждения. И теперь, когда Чехов отсутствовал, это чувство возникало от его дома, от принадлежащих ему вещей, от заведенного им в доме порядка.
День начинался у Чеховых рано, затемно, в семь часов. Трещал у Евгении Яковлевны будильник, кашлял и потом молился Арсений, зевал и стучал когтями по полу пес Каштан. Пока не уехала Маша, по дому прежде всех слышались ее деловитые хозяйские шаги, голос, похожий интонациями на голос Чехова, металлические и стеклянные звуки с кухни, плеск воды. При Маше неловко было залеживаться, даже если просидел за полночь, и он вскакивал, умывался из кувшина, не зовя Арсения, брился при керосиновой лампе — а за окном еще стояла тьма и шуршал дождь — и одевался тщательно: ни сам Чехов, ни домочадцы никогда не носили халаты, шлепанцы, блузы и прочую домашнюю одежду. При Маше пили любимый Чеховым кофе, теперь же, с Евгенией Яковлевной, чай — Арсений приносил самовар. От раннего вставания, завтрака появлялось чувство деловитости, почти торопливости, словно спешишь, как прежде, на службу в редакцию или в статистическое бюро, где он когда-то мучился над составлением никому не нужных сводок и справок. Этому энергическому настроению был только один выход — за стол. Что он и делал. Тем более что дни подготовительные, когда еще ничего не выходит, переделывается, уже оставались, как он чувствовал, позади, и уже сделался он разогрет — заметками, стихами, чтением по ночам.
Странно, но ему помогало перечитывание себя самого, своих рассказов. Он брал в руки «На краю света» или десятый номер «Жизни», где были напечатаны «Антоновские яблоки», и прочитывал несколько страниц. Ощущение всегда было разное: или очень нравилось — до того, что не верилось, будто это ты написал, или все казалось пошлым и бездарным. Но и в том и в другом случае чтение возбуждало: либо хотелось достичь себя самого, возвращалась утраченная в дни безделья уверенность, либо хотелось, вопреки себе, доказать, что теперь он может писать иначе, чище. То же действие оказывало на него чтение других писателей: хорошая проза взвинчивала, волновала, плохая давала чувство дистанции, впечатление, что стоишь наверху, а она, эта плохая проза, оставалась внизу, позади. Это было важно. Всегда важно верно оценивать себя, чтобы не впасть в постыдное и смешное гениальничанье и не терзаться мнимым ничтожеством, от которого опускаются руки.
По заведенному порядку обедали у Чеховых в час, он успевал проголодаться, устать, выходил возбужденный и веселый, и Евгения Яковлевна тоже с радостью его встречала, хотя едва ли скука ее мучила. Весь день ее не было слышно, она жила на свете так тихо и деликатно, почти робко, занятая самыми простыми занятиями, что, глядя на нее, тоже поднимался целый рой мыслей о Чехове, его семье, о пути, проделанном им: от мальчика в лавке, купеческого сына, певчего — все братья Чеховы пели в детстве в церкви — до писателя с европейской славой, властителя дум. Маленькая, тихая старушка в очках с железною оправой, с простонародным, чуть азиатским, широким лицом, набожная и слабо-грамотная, всю жизнь мучимая нуждой, произвела на свет детей, особенности которых едва ли могла понять и оценить сама. Все ее дети — не богачи, не дворяне — поднялись на самый верх своего времени, были одарены талантами к живописи, литературе, наделены артистичностью и присущими художникам характерами, со всеми хорошими и дурными чертами таких характеров. Самородство было их счастьем и бедой, их первичность мешала им, они были алмазами. Но не бриллиантами. И среди всех только Антону Павловичу дал Бог способность вовремя отшлифовать себя самого, выгранить, не просто доказать, но употребить в дело свою драгоценность.
Однако общение с его родительницей открывало и некую его тайну, секрет глубокой его задумчивости, сосредоточенности и, возможно, сомнения, которым он мучился. Вот это и хотелось постичь и проверить: причину его перемены, которая сделалась всем заметна, апатичности, отрешенности. Было впечатление, что лицо его постоянно скрыто серым занавесом одной и той же мысли, и только изредка и ненадолго взвивается занавес, и выступает в лице жизнь, веселость, интерес к окружающему. Усталость угнетала его. Разумеется, ему было от чего устать: он написал гору, он трудно жил, его съедала болезнь. Но, кажется, была и еще причина: ему пришлось истратить гигантскую энергию именно на создание себя самого, на то, чтобы понять, кто он и что.
Природа резко обходится с любимыми своими созданиями: в обыкновенную человеческую оболочку, состоящую из таких же, как у всех, рук, ног, шляпы, галстука, она помещает нечто необычайное, доводит концентрацию материи до совершенства, закладывая в мозг задолго до появления человека на свет способность этого мозга к особой деятельности и особому развитию; эти бросаемые Богом искры, эти семена падают на какую угодно почву. И нелегко дается человеку обладание этим даром. Человек проживает одинаковую со всеми жизнь, становится доктором, поручиком, инженером, купцом, а искра разгорается в нем, мешает, сбивает, пока пожар не охватывает изумленного человека целиком. Не было ли и в Чехове этого недоумения, размышления над случившимся? Иногда, глядя на него, приходила в голову еретическая мысль, что он по сей день не уверился в себе, не успел понять своего значения. Даже чувствует себя не на месте. И уж явно тяготило и всегда было неприятно ему изъявление восторгов, почитание, неудобства известности.
Это раздвоение происходит всегда, и оно неизбежно: на человека и писателя, человека и артиста, человека и художника, человека и общественного деятеля; человек живет сам по себе, а его имя и слава отдельно. Иным это — как маслом по душе, а иным — мучение. Чехов демонстрировал иронию насчет своей славы, любил говорить, что он доктор и больше никто, и если подумать, то для его происхождения и семьи быть доктором уже означало чрезвычайно много.
Важно, важно было довести до конца эти мысли — не из-за Чехова, из-за себя. Чтобы понять себя, найти соответствие между человеком, носящим имя Иван Бунин, и явлением, обозначенным тем же именем. Как часто личное знакомство с писателем вызывает изумление: глядишь и не веришь, что именно этот человек написал то-то и то-то! И так ясно делается, что это Бог водил его рукой!
Вот так, должно быть, и другие смотрят на тебя и не понимают, как это ты, узколицый и язвительный, холодный и замкнутый, пишешь печальные стихи и нервно-взволнованные рассказы. А если бы кто-нибудь прочел письма! Или угадал прыгающий и безумный ритм чувства, часто почти болезненный, и обнаженность мысли, и жадную скорость желаний, и всю странность, и тьму припадков, провалов отчаяния. И бешеную страсть, и вопль, и слезы! «Тихий» Чехов написал «Черного монаха», он же совсем молодым выхватил из жизни «Скучную историю». Как это случилось? Отчего? Кто водил его рукой? А Лермонтов? Почти юношей создавший книгу такой пронзительности и печали, какой не знала литература?