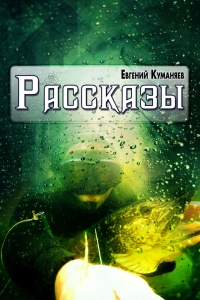Книга Жестяные игрушки - Энсон Кэмерон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Один из транспарантов, натянутых Кенни над крышей «Транзита», гласит: «НАШ НОВЫЙ ФЛАГ? С ЛИЧНЫМ АВТОГРАФОМ АВТОРА. ДАРОМ». Поэтому мы суем свои пластиковые флажки бесконечной веренице наших братьев-соотечественников, плетущихся мимо нас к входным турникетам, чтобы попасть на стадион и там превратиться в одного огромного зверя, чья жизнь не длиннее, чем у мотылька, и который ничем не отличается от других таких же зверей, сложенных из пятидесяти тысяч частей. Огромный одноглазый зверь, родившийся, высосав из этих пятидесяти тысяч составных частей все тестостероны, и весь эгоцентризм, и всю ртуть, и выплюнув при этом сопутствующие им вкрапления сопереживания и доброты. Зверь, который задавит англичан своим ревом и своей хитростью, и уж окончательно сразит их своим солипсизмом. И только время от времени будет взрываться мексиканскими страстями, и вскидываться, и встряхиваться, как мокрая псина, и разражаться градом летящих во все стороны оберток, от еды, и стаканчиков из-под пива, и маленьких пластиковых флажков какой-то непонятной страны, и тут же утихать под этим дождем мусора.
К двум дня толпа втянулась мимо нас в воронку стадиона — пятьдесят тысяч индивидуумов в тревожном море чужих людей. И так до начала игры, когда все эти индивидуумы разом погибают с магической первой подачей, а из их трупов рождается огромный зверь. И всю вторую половину дня мы сидим у входа на стадион и слушаем, как этот зверь в надежде взвизгивает, и торжествующе ревет, и стонет от дурацкого промаха, и взбадривает себя гимнами, а потом потрясенно ворчит в досаде на поражение.
Сидеть и видеть, как Кенни слушает это, — занятие не из приятных. Это почти как вторжение в личную жизнь. Как ждать с отцом у входа в общественный туалет, внутри которого навсегда засел страдающий желудочным расстройством незнакомец. Или как слушать военные воспоминания своего выжившего из ума дядюшки, то и дело бездумно поглаживающего сквозь ткань штанов свой перец. Или как сидеть у двери в камеру-одиночку и слушать какого-нибудь психа, изливающего свои интимные похождения и свои грязные помыслы. Порой зверь на трибунах срывается на визг, и в такие минуты мы с Кенни не можем смотреть друг на друга и отворачиваемся, якобы любуясь автостоянкой. Огромная безлюдная площадь сплошь уставлена легковушками, из которых там и здесь торчат минибусы, и похожа скорее на вечную, полную скрытого смысла мозаику, выложенную каким-нибудь безвестным марокканским художником, нежели на простое скопище «Мазд» и «Холденов», наскоро припаркованных вместе зверем, чья жизнь не дольше жизни мотылька.
Зверь не прочь подраться на войне. Или послать кого-нибудь подраться от его имени. И размахивает теперь моими разноцветными звездами и моим Улуру, моим гранж-боем-против-старикашки.
Время от времени мы протягиваем свой флажок опоздавшему или, наоборот, уходящему до окончания матча. Ближе к ужину зверь пьянеет и перестает понимать, что происходит, и всплески его визга и воя сменяются непрерывным ворчанием. И так, пока вокруг стадиона не зажигаются фонари. И тогда, с последней подачей, по зверю пробегает смертная судорога разочарования, и он умирает. Изрыгает эти тестостероны, и эго, и ртуть, и запихивает их обратно в пятьдесят тысяч индивидуумов, которые оживают и запруживают лестницы, и пандусы, и выходы, стараясь быстрее вернуться к своей обычной жизни. Мы с Кенни запихиваем комитетскую макулатуру обратно в «Транзит» и уезжаем, прежде чем эта вечная, пестрая мозаика расплавится и превратится в транспортный поток, в пробку, отдельные части которой, похоже, и не подозревают, что совсем недавно были единым целым, и стараются подрезать друг друга, и выпихнуть друг друга с полосы, и зажать, и орать друг на друга, опустив стекло.
Этим же вечером, в пол-одиннадцатого мне звонит отец. Мысль о том, чтобы позвонить мне раньше, пока он был трезвее, ему в голову не пришла. Ему пришлось напиться, чтобы сообщить мне что-то такое, чего не мог сказать трезвым. Пришлось напиться, чтобы сообщить мне что-то такое, чего не может сказать и пьяным.
«ТЫ НЕ МОЖЕШЬ… НЕ ОБРАЩАТЬ НА МЕНЯ ВНИМАНИЯ. ТЫ НЕ МОЖЕШЬ… НЕ ОБРАЩАТЬ НА МЕНЯ ВНИМАНИЯ».
— Алло?
— Э… алё.
— Папа.
— Алё.
— Слушай, уже… пол-одиннадцатого. Я в постели. Я думал, это… это кто-то другой.
— Этот мудак меня отшил.
— Что? Кто отшил?
— Магистрат в Джефферсоне. На День Австралии… я не могу приехать. Свадьбы, похороны, крестины — это ради Бога. На них положена поблажка. Но на День Австралии, даже на церемонию, в которой участвует твой сын, — ни-ког-да. Он не стал подписывать мою заяву. Он не будет отключать мой браслет. Я не могу приехать.
— Черт, папа. Вот ублюдки. А что, никого выше нет? К кому обратиться?
— Это вряд ли. Мне тут прислали… официальное предупреждение. Похоже, плевать им с высокой колокольни на срок моего заключения. Прислали список дат, когда они засекали на своем гребаном экране мои вылазки во внешний мир. Ясное дело, всякий раз как Грег Берроуз из Тукумуола звонил мне, я все валил на солнечные пятна. Я-то думал, он все воспринимает по-человечески, с юмором. А теперь они на мою теорию солнечных пятен положили.
— Ладно, пап. Послушай, это всего лишь мелкий номер в программе праздника, и потом, шансы на мой выигрыш — один к пяти, так что все это ерунда. Там и смотреть не на что. Переживем.
— Я что говорю: видит Бог, я ведь мог этому плотнику на его гребаном гидроцикле мозги вышибить, если бы захотел. Здоровый такой, ублюдок, и пузо, что твоя бочка.
— Я знаю, пап.
— Это был предупредительный выстрел.
— Я знаю.
— Ты ведь еще не набрал денег, чтоб туда ехать, нет?
— Куда?
— Бугенвилль.
— Вот выиграю свой конкурс и сразу лечу.
— Я дам тебе денег.
— Я выиграю конкурс.
— Я дам тебе денег.
— У тебя их меньше, чем у меня.
— Я устрою распродажу. Пора мне сократиться немного.
Некоторое время мы оба молчим.
— Это твое дерьмо никому не нужно, папа. Это просто железо. Хлам, проржавевший насквозь.
— Тут ты не прав. И предложение сохраняется в силе, — говорит он.
Снова молчание.
— Ну, все равно, на День Австралии я приехать не могу. Буду здесь, на Выселках. Но я хочу, чтоб ты знал… знал… ты молодец… молодец.
— Спасибо. Спасибо, пап. Я позвоню тебе, когда вся эта ерунда закончится, и скажу, как я прошел.
— Это… не обязательно. Ты лучше… ну, веселись, празднуй.
— Я позвоню.
— Ну, ладно, условно договоримся, что позвонишь. Хватит пока об этом. Условное соглашение.
— Хорошо, пап. — Мы снова молчим, и я не заговариваю первым, потому что знаю: он здесь, крепко стиснув коленку свободной рукой, чтобы набраться храбрости и сказать то, ради чего звонит.
— Это… это ведь не шоссе, — говорит он наконец. — Не две полосы на север, две на юг, понимаешь? Дети не чтят своих родителей так, как родители — их. Ну, не получается, и все тут. Только ты этого сам не понимаешь, пока не станешь родителем.