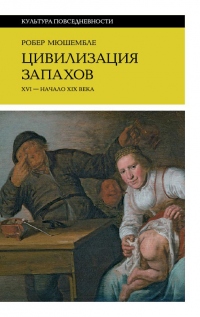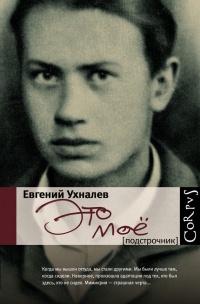Книга Оргазм, или Любовные утехи на Западе. История наслаждения с XVI века до наших дней - Робер Мюшембле
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
То, что было изгнано, возвращается. Эротические игрушки и искусственные пенисы открыто продавались на улицах Лондона еще в XVIII веке. Считалось, что они невероятно чувственны и, разумеется, привезены в Англию из Франции. Их современные варианты весьма многообразны. Некоторые родились в Америке в исследовательских целях: они позволяют имитировать движение половых органов при соитии. Речь идет о дорогостоящих прозрачных пластиковых аппаратах, куда вставляется пленка, и таким образом фотографируется внутренность вагины. Эти аппараты снабжены переключателями скорости и глубины проникновения, они используют электрическую энергию и представляют собой нечто вроде машины для бесконечного оргазма. Другие — просто вибромассажеры, вполне невинные с виду, что облегчает их продажу. Не обязательно электрические, они вырезаны прихотливым образом и имеют самые разнообразные формы. Особо изобретательное приспособление появилось в Японии около 1970 года. Оно называется «рин-но-тама», или «ватама», или «бен-ва» и состоит из двух полых шариков величиной с голубиное яйцо, причем в один из них налито немного ртути. Пустой шарик вводится во влагалище, за ним второй, а завершает дело мятая бумага или вата. С этого момента женщина может получать наслаждения, ничем не выдавая себя. Ей достаточно покачаться на качелях или в кресле-качалке, как шарики начинают скользить внутри влагалища и давят на стенки подобно мужскому члену[482]. Любители секса на покачивающемся ложе не ожидали такого развития идеи! Наконец, вариант 1990 года — «кожаная бабочка», нечто вроде электрического вибрирующего яйца. Женщина может незаметно удерживать его во влагалище, например, во время романтического ужина при свечах[483]. Все эти приспособления, даже самые скромные, не пользуются слишком большим спросом. Быть может, феминистки могут найти в этом еще одно доказательство своей правоты: они считают, что клиторное возбуждение, вопреки мнению Фрейда, превосходит вагинальное.
Европа пошла по пути сексуального освобождения раньше, чем Соединенные Штаты: противозачаточные таблетки, представление о женском оргазме, эротические игрушки вошли в европейскую культуру давно, и этим дело не ограничилось. В протестантских странах, в частности в Скандинавии и Нидерландах, общество весьма терпимо относится к свободе нравов, обнаженному телу, продаже порнографических изданий в киосках. Найдены способы регулирования древнейшей профессии, о чем свидетельствуют витрины в Амстердаме и Гамбурге, за которыми проститутки выставляют напоказ свои прелести. Католические страны более сдержанны, но и там после событий мая 1968 года ослабли многие запреты. Законодательство ответило на изменения в общественном сознании, в частности, легализацией абортов (во Франции по закону Вейля от 17 января 1975 года), разводов, признанием гомосексуалистов и утверждением разных форм сожительства людей одного пола (Пакт о гражданской солидарности в стране Вольтера). В Старом Свете нет тех ножниц между суровыми традиционными законами, которые сохраняются в теории, но редко применяются на практике, и реальным поведением, что так характерны для американской культуры. Если что-то в законодательстве не устраивает общественное мнение, оно игнорирует установленные строгости, а законодатели в конце концов приспосабливаются и меняют правовые нормы, касающиеся гетеросексуальной семьи — многовековой основы западного общества. Как изменяется представление о любви
В начале третьего тысячелетия по обе стороны Атлантики происходят перемены во взаимоотношениях полов[484]. В обществе всегда существует негласный контракт между полами, и он составляет существенную часть общественного договора в целом. Он зависит не столько от воли личностей, сколько от целей и задач цивилизации в целом. Чувство свободы, возникшее в Европе и Соединенных Штатах после 1968 года, появилось благодаря деятельности отдельных личностей и одновременно как результат всеобщих усилий. С этой точки зрения любовь нельзя считать исключительно личным чувством, так как «мы любим и страдаем, следуя культурным предписаниям». Любовь можно также считать определенным «коммуникационным кодом», тесно связанным с принципиальными параметрами человеческого сообщества и с изменениями, в нем происходящими[485].
На Западе этот код, ограниченный взаимоотношениями внутри гетеросексуальной пары, впервые претерпел изменения в XVII веке. До этого он строился на возвышенном идеале средневековой куртуазной любви, а в XVII веке в него вошли представления о чувственности как о непременном условии любовной связи[486]. Литература заговорила о любви и страсти и открыто стала выяснять, в чем различие между ними. Следующий поворот произошел около 1800 года, когда стали разделяться любовь-страсть и романтическая любовь. Никлас Люман считает, что в это время окончательно отступила традиционная модель мира, основанная на семье в узком смысле слова, религии и морали. На смену ей пришла современная модель, построенная как функциональная система, все элементы которой — экономика, политика, закон, искусство, частная жизнь и пр. — развиваются автономно и при этом сохраняют тесную взаимозависимость[487]. Его основная гипотеза состояла в том, что существенные перемены в любовной семантике приходят обычно вместе с обновлением коммуникационной символики в целом; процесс обновления приводит к тому, что душевные взаимоотношения между людьми становятся более интенсивными. Однако то, что лежит в основе личности, — память, особенности поведения — никогда не может быть целиком понято другим, тем более что и сама личность не всегда понимает себя до конца. Таким образом, взаимоотношения между людьми в основном регулируются правилами и нормами, которые позволяют принять или отторгнуть эгоцентрическое ви́дение мира, свойственное каждому из нас[488]. Как мы помним, Уолтер, автор «Моей тайной жизни», несколько раз говорит о том, что рассказывать о своей жизни он стал из-за неистребимой потребности понять, испытывают ли его современники те же эротические ощущения, что и он. Он часто признается, что трудно описать свои чувства, не имея возможности сравнить их с чувствами других, ибо суровые табу викторианского английского общества не позволяют говорить о подобных вещах[489].