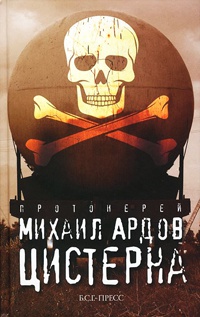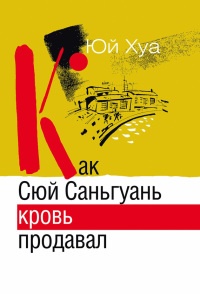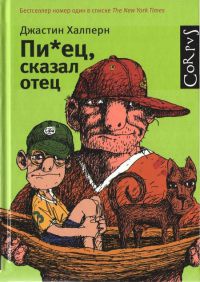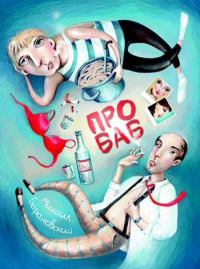Книга Сумасшедший по фамилии Пустота - Виктор Пелевин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На похороны Кобзаря собралась вся Москва. Его открытый гроб целые сутки стоял на заваленной цветами сцене Колонного зала — только один раз, в перерыве, он на несколько минут вылез из него, чтобы перекусить и выпить стакан чаю. Люди в зале аплодировали стоя, и Кобзарь еле заметно улыбался в ответ из своего гроба, вспоминая о том, что пережил вчера на Никольской. Потом мимо по одному пошли люди, с которыми он вел дела, — останавливаясь, они говорили ему несколько простых слов и шли дальше. По условиям конвенции, Кобзарь не мог отвечать, но иногда он все же опускал на секунду ресницы, и проходивший мимо соратник понимал, что понят и услышан.
Несколько раз от особенно теплых слов глаза Кобзаря начинали мокро блестеть, и все телекамеры поворачивались к его гробу. А когда мэр, надевший в тот вечер простую рубаху в крупный сине-красно-зеленый горошек, наизусть прочел собравшимся одно из лучших стихотворений покойного, по щеке Кобзаря впервые за много лет пробежала быстрая слеза. Они обменялись с мэром невидимой другим тихой улыбкой, и Кобзарь вдруг понял, что мэр, несомненно, тоже видел Гимнаста. И слезы, больше не останавливаясь, потекли по его щекам прямо на белый глазет.
Словом, это было запомнившееся всем торжество — омрачило его только известие о том, что обозреватель Золопоносов утоплен неизвестными в бочке с коричневой нитрокраской. Кобзарь не хотел этого и был искренне расстроен.
Утро следующего дня застало его в аэропорту «Внуково». Он улетал прочь налегке, через Украину. В последний раз остановившись у входа, он оглядел машины, голубей, мусоров и таксистов и шагнул внутрь здания аэропорта. В конце общего зала его слегка толкнул невысокий молодой человек, на кисти которого был вытатуирован обвитый змеей якорь и слово «acid». В руке он держал большую черную сумку, в которой от столкновения звякнуло какое-то тяжелое железо. Вместо того, чтобы извиниться, молодой человек поднял глаза на Кобзаря и спросил:
— Шо, деловой, шо ли?
В кармане Кобзаря теперь лежал настоящий «Глок-27» с пулями «холлоу пойнт», который мог поставить (а если точнее, так сразу положить) нахала на довольно далекое место — куда-нибудь к противоположной стене зала. Но за последние сутки что-то в душе Кобзаря изменилось. Он смерил молодого человека взглядом, улыбнулся и вздохнул.
— Деловой? — переспросил он. — Типа того.
И толкнул ладонью прозрачную дверь с надписью «Бизнес-класс».
То, что происходило в Москве весь остаток лета, осень и первую половину зимы, лучше всего передает название статьи о юбилее художника Сарьяна — «буйство красок». К концу декабря это буйство стало стихать, и постепенно наметились контуры будущего перемирия. Правила пэйнтбол-разбора, установленные при Кобзаре, чтили свято, и многим ярким фигурам российской жизни пришлось уехать на тихие райские острова, далеко от мокрых и мрачных московских проспектов, высоко над которыми крутятся видимые только третьему глазу банкира зеленые воронки финансовых мега-смерчей.
Окончательная стрелка по новому разделу всего и вся была назначена в том же ресторане «Русская Идея», где когда-то произошла историческая встреча «большой восьмерки» с Кобзарем во главе.
Встреча совпала с Новым годом, и в зале ресторана гремела музыка. Над головами собравшихся летали рулоны серпантина, с потолка сыпалось конфетти, и говорить приходилось громко, чтобы перекричать оркестр. Но встреча, в сущности, была чисто формальной, и все пятеро главных авторитетов чувствовали себя спокойно. На роль идейного Сосковца всего уголовного мира претендовал только один человек — крутой законник Паша Мерседес, которого звали так, понятное дело, не из-за его машины — он ездил только на сделанной по индивидуальному заказу «Феррари». Его полное имя по паспорту было Павел Гарсиевич Мерседес — он был сыном бежавшей от Франко беременной коммунистки, при рождении получил имя в честь Корчагина, а вырос в одесском детдоме, из-за чего повадками напоминал героев Бабеля.
— Кобзаря больше нет среди нас, — сказал он собравшимся, косясь на Деда Мороза, ходившего по залу и предлагавшего сидящим за столами подарки из большого красного мешка. — Но я обещаю вам, что та падла, которая его заказала, утонет в море краски. Вы знаете, что я могу это сделать.
— Да, Паша, ты можешь, — уважительно откликнулись за столом.
— Вы знаете, — продолжал Паша, окидывая собравшихся холодным взглядом, — что у Кобзаря был золотой «Ройс», какого не было ни у кого. Так я вам скажу, что мне это не завидно. Вы слышали про Академию Наук? Так она до сих пор существует только потому, что я отдаю в эту черную дыру половину всего, что имею с Москворецкого рынка.
— Да, Паша. У нас есть яхты и вертолеты, у некоторых даже самолеты, но такого понта, как у тебя, нет ни у кого, — высказал общую мысль Леня Аравийский, который вел большие дела с самим Саддамом и был в Москве проездом.
— А на те бабки, которые мне идут с Котельнической набережной, — продолжал Паша, — я держу три толстых журнала, которых кинул Жора Сорос, когда он понял, что для них главный не он, а пара местных Достоевских. Я не имею с этого ни одной копейки, но зато с этих ребят мы каждый день становимся во много раз духовно круче.
— Есть такая буква, — согласился сухумский авторитет Бабуин.
— Но это не все. Все знают, что, когда один лох из министерства обороны взял себе за привычку называться в газетах моим кликаном, мы с Асланом сделали так, что этого лоха убрали с должности. А это было нелегко, потому что его любил сам папа Боря, за которого он отвечал на стрелках…
— Мы уважаем тебя, Паша… Базара нет, — пронеслось над столом.
— И поэтому я говорю вам — за Кобзаря теперь буду я. А если кто хочет сказать, что он не согласен, пусть он скажет это сейчас.
Выхватив из-под пиджака два маленьких распылителя с синей и красной краской, Паша угрожающе сжал их в мокрых от нервного пота руках и впился глазами в лица партнеров.
— Кто-нибудь хочет что-то сказать? — повторил он свой вопрос.
— Никто не хочет, — сказал Бабуин. — Зачем ты вынул это фуфло? Убери и не пугай нас. Мы не дети.
— Так значит, никто не хочет ничего сказать? — переспросил Паша Мерседес, опуская баллоны с краской.
— Я хочу шо-то сказать, — неожиданно раздался голос у него за спиной.
Все повернули головы.
У стола стоял Дед Мороз в съехавшей набок шапке. Он уже сорвал с лица ненужную больше бороду, и все заметили, что он очень молод, возбужден и, кажется, не до конца уверен в себе, а в руках у него пляшет вынутый из мешка дедовский «ППШ», явно пролежавший последние полвека в какой-то землянке среди брянских болот. На одной из его кистей была странная татуировка — якорь, обвитый змеей, под которым синело слово «acid». Но самым главным были, конечно, его глаза.
Мерцавшая в них мыслеформа точнее всего могла бы быть выражена лингвистическими средствами так: «ОТДАЙТЕ ДЕНЕГ!»
И еще в его глазах было такое сумасшедшее желание пробиться туда, где жизнь легка и беззаботна, небо и море сини, воздух прозрачен и свеж, песок чист и горяч, машины надежны и быстры, совесть послушна, а женщины сговорчивы и прекрасны, что собравшиеся за столом чуть было сами не поверили в то, что такой мир действительно где-то существует. Но продолжалось это только секунду.