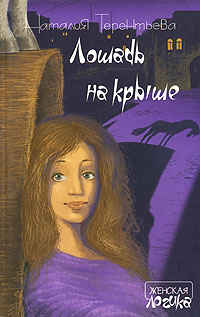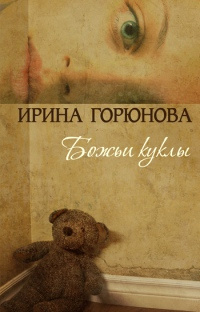Книга Прискорбные обстоятельства - Михаил Полюга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но вот и Грешкова — легка на помине: худая, слегка кривоногая, с как бы вытянутым вперед лисьим личиком, на котором кожа напоминает папирус. В руках у нее соболья накидка, ярко-рыжие кудри взбиты и ловко раскиданы по плечам, декольте глубже, чем могло быть, юбка короче того уровня, какой диктуется текущим моментом, но главное сапоги — высоченные, выше колен, точно у проститутки с кольцевой дороги. И бесцеремонный, цепкий, оценивающий взгляд.
Широким шагом (а как иначе пройдешь в таких сногсшибательных сапогах?) она шагает к гардеробу, по ходу приветственно кивая прокурорам и прокуроршам, кивает и заместителям и улыбается их женам, не глядя сдает накидку юной гардеробщице и зашвыривает в сумочку полученный взамен номерок. Затем сует носик к зеркалу, вертит головой, проводит пальцами по тонким бровям, поправляет на висках завитушки и наконец, обернувшись к собравшимся в фойе, небрежно выворачивает и отставляет в сторону ногу. «Вот я какая!» — демонстрирует она всем своим видом.
А собственно, какая? — я разглядываю ее исподтишка из-за финиковой пальмы. Не знаю, на что она годится в постели, но среди красавиц такой не бывало, а что до спутницы жизни, то сие явно не ее профиль. Хотя для тех, у кого есть спутница, но не хватает разнообразия в постели…
«Тьфу! Какое разнообразие может быть с жабой под одеялом? — все-таки не сдерживаюсь я и, отвернувшись, внезапно ловлю на себе взгляд еще одной дамочки — Квитко, взгляд мимолетный, соскальзывающий, не взгляд, а летучая паутинка, каковой бывает у людей близоруких, которые смотрят в толпу, никого не различая. — Тебе-то чего надобно? Поезд давно ушел, и дым разметало ветром. Или ты всего лишь наводишь резкость на знакомых лицах, чтобы в следующую секунду от них отвернуться?»
И все-таки взгляд Лилии Николаевны — Лили, как она однажды просила ее называть, — пусть даже непреднамеренный и случайный, задевает во мне какую-то печальную, оборванную на высокой ноте струну. Несыгранная и позабытая, но мелодия! Тупиковая ветвь в лабиринте жизни. Львов, дорога, дождь, Адажио Альбинони…
Сколько женщин, столько загадок. Нет, не так. У природы одна пьеса, и каждая женщина, в зависимости от обстоятельств, играет в этой пьесе ту или иную роль: сегодня она хранительница очага, жена, завтра — любовница, утром она обманута, вечером — обманывает сама. И потому праведница Квитко легче легкого может обернуться назавтра Грешковой и наоборот.
То-то моя жена никогда не жаловала подобные посиделки! Что ни говори, а женский взгляд гораздо зорче и острее мужского, и если меня брала нередко оторопь от пребывания в нашем вертепе, то каково бывало в такие минуты ей?..
Мои размышления прерывает появление Фертова. Впереди него летит легкий вздох, как перед проходом голливудской знаменитости на красной дорожке, сотрясается воздух — это сдвигаются, смыкаются в тесные ряды для приветствий и поклонов прокуроры разных мастей и их жены. И вот уже Михаил Николаевич шествует между нами, как некогда шли по каменным плитам Рима Август, или Нерон, или еще кто-то там, — лощеный, надушенный, с идеальным пробором в волосах, с золотыми запонками в манжетах и в строгом номенклатурном галстуке с красно-синей полосой. Не останавливаясь, все так же размеренно и неторопливо он направляется в зал и красноречивым жестом приглашает всех за собой.
Агнцы бредут за пастырем, проталкиваются в широкую двустворчатую дверь и рассаживаются за столами — кто норовит поближе к заветному столу с руководящим составом, кто подальше, чтобы лишний раз не попадаться начальству на глаза. Я подсаживаюсь к своему отделу — так мне привычнее и проще.
— Ах, Евгений Николаевич, я боялся, вы нас покинете! Коньячка или водочки? — уже орудует над столом бутылками со спиртным длиннорукий Мешков. — Понял, уже наливаю. Сегодня водка — наш девиз! А вот Сорокина пить отказывается. Как это понимать? Влепите ей взыскание, я вас очень прошу!
— Я пью вино, — демонстрирует мне бокал, наполовину наполненный густым рубиновым напитком, Сорокина. — А Мешков, всем известно, — гад и трепло!
— Не обращайте внимания, Алла льстит мне. Я ей симпатичен — вот она и того… льстит, — продолжает дурачиться неугомонный Мешков; жонглируя бутылками с коньяком и водкой, как заправский бармен, он оборачивается к Дурнопьянову: — Андрей, где твоя рюмка? Сволочь! Уже втихомолку вкусил и закусываешь? Положи колбасу на место! И вообще, как правильно: Дурнопьянов — дурно пьян или пьян дурно? То есть попусту…
— Мели, Емеля! — благодушно отзывается Дурнопьянов, который и в самом деле что-то жует. — А Ващенков где? Опять болен?
Но вопрос повисает в воздухе, потому что по залу уже растекается и нависает тишина. С рюмкой минеральной воды в руке (он не употребляет спиртного) Фертов ждет, пока улягутся последние звуки: возбужденное бормотание, звяканье приборов о фарфор, проезд по паркету придвигаемых стульев. Но вот уже слышно, как где-то под потолком наскакивает на стекло сумасшедшая муха, и тогда наконец Михаил Николаевич звучным, хорошо поставленным баритоном произносит здравицу:
— Уважаемые коллеги! Позвольте мне…
Замечательное дело — праздник! Вернее, замечательно предощущение праздника, его ожидание, надежды, что вот он придет — и жизнь изменится в лучшую сторону. Но с возрастом, с каждым прожитым днем я все больше уверяюсь в обратном. Праздник — порождение молодости, у которой впереди необозримая жизнь с ее подарками и превращениями. Зрелость, напротив, напитывается ядом мудрости и ясно осознает, какой жестокий обман кроется в ожидании завтрашнего чуда. Зрелость знает: ничего не бывает потом! Человеческое бытие, за редким исключением, напоминает пригородный поезд, ползущий по рельсам от станции отправления к конечной станции. А праздник — это такой себе полустанок на пути, где тебя никто не знает и не ждет. Пристанционные огни, за ними — чужие селения, профиль незнакомой женщины за окном медленно отходящего вагона (возможно, она всю жизнь ждет одного тебя), обрывки музыки, подхваченной и в одно мгновение унесенной ветром. Но тебе не суждено сойти на этом полустанке, обнять эту женщину, укрыться под кровлей ее дома, ибо жизненный путь проложен без учета твоих пожеланий и надежд. Как уверяют фаталисты, предопределен свыше. Положим, подойду я сейчас к Квитко, возьму ее за руку, посмотрю проникновенно в глаза — и что же? Но голос надежды где-то в глубине моего естества обнадеживает: а вдруг?..
Нет, я боюсь праздников: в последние годы они все чаще отдают во мне горьким похмельем.
Тогда что я делаю здесь? Может быть, воспользоваться танцевальной паузой и уйти по-английски, ни с кем не прощаясь? Но что-то удерживает от такого шага. Что?
«А черт его знает! — отвечаю я сам себе и принимаюсь вертеть головой по сторонам. — Ну-ка, что тут у нас за праздник?»
А веселье в самом разгаре. Свет в зале пригашен. Звучит живая музыка. Ресторанная певичка на эстраде, неудавшаяся звезда в прозрачной цветастой блузке, обтерханных джинсах и громадных уродливых башмаках, щекочет сердце звуками глубокого, приятного, с характерной для прокуренных связок хрипотцой голоса. Одни танцуют, другие прихорашиваются у зеркал, третьи переминаются с ноги на ногу на морозе, за прозрачной стеклянной дверью, и вожделенно курят, четвертые бубнят и продолжают пить за столами, пятые прогуливают в фойе жен, носят им кофе в крохотных чашечках и сладости на блюдцах. Все в своей стихии, в своей стае, в своем кругу. Это хорошо, это просто замечательно, что человек не в состоянии выжить на земле в одиночку! Плохо, что стая иногда загрызает своего как чужака…