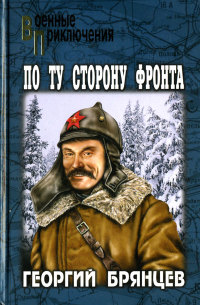Книга Жили два друга - Геннадий Семенихин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Демин вздохнул, встал с потертого дивана и нехотя сел за стол. Ничего не поделаешь, надо было готовить к зачету перевод из «Саги о Форсайтах». Он придвинул к себе словарь.
В открытое окно вызывающе лезло бездонное майское небо. Где-то далеко проплыл невидимый самолет, оставив после себя широкий, разлапистый след. Во дворе мальчишки громко колотили деревянного «чижика», загоняя его в четырехугольник, нарисованный на влажной земле. До Демина не сразу дошли их звонкие голоса.
«Тетенька, мы тут не знаем никакого Демина, честное, слово, не знаем. А что?» – «Да подожди ты, Володька, может, это новые жильцы, те, что с отдельным входом комнату имеют. А?» – «Это у которых тетенька Зарема?» Демин отбросил словарь и выскочил во двор. Увидев молоденькую почтальоншу, быстро спросил:
– Это вы, что ли, Демина тут ищете?
– Ну, предположим.
– Так я и есть Демин.
– Вам телеграмма-«молния».
Демин взял телеграмму и быстро вернулся домой, разорвал синюю склейку. Всего пять слов: «Немедленно приезжайте редакцию «Восхода». Батурин». Демин торопливо натянул на себя гимнастерку, застегивая пуговицы негнущимися пальцами, а мысль лихорадочно работала:
«Если бы отвергли, телеграммой-«молнией» не вызывали бы! Значит, что-то получается. Милая Зарка, если бы встал из гроба хозяин черной клеенчатой тетради, Леня Пчелинцев, и узнал, в каком ты тяжелом состоянии, он бы без всякой жалости отдал свое детище. Мы ее оба любим, – оправдывал себя Демин, – и если бы Леня был на моем месте, он поступил бы точно так же, как и я. Неважно сейчас, за чьей подписью будет фигурировать это повествование. Какой толк, что я уберу свою фамилию, а поставлю его? За это никто не прибавит и рубля. Только расспросы ненужные пойдут, что, как, откуда, почему. А сейчас конечный результат важен – спасти Зару, поставить ее на ноги, уберечь от этого проклятого затемнения в легком. Вот почему я не дрогнул, поставив на повести свою фамилию. Как только все наладится, я ее сниму. Подумаешь, книгу примут к печати под моей фамилией, а в самый последний час я поставлю на ней имя истинного автора, своего лучшего друга Лени Пчелинцева». Так рассуждал капитан запаса Николай Демин, стоя на тамбурной площадке трамвайного прицепа. И ему казалось, что все это оправдано стечением обстоятельств, что в эти часы по-иному поступить он не может. Тяжелую дверь у редакционного подъезда он рванул с такой силой, что она застонала. Секретарша Оленька, сидевшая в приемной за своим столиком, уже не была такой, как прежде, равнодушно-неприступной. Едва Демин появился, как весело вспорхнула навстречу, с кокетливой улыбочкой воскликнула:
– Ох, Николай Прокофьевич, так и перепугать можно!
Он сразу отметил эту кокетливость.
– А я добрый. Я в своей жизни еще никого не напугал, Оленька.
Хитрая и опытная секретарша Оля уловила в словах его фамильярность, но смирилась с ней, пропустила мимо ушей как должное.
– Николай Прокофьевич, – заговорила она голосом доброй волшебницы, – а я тоже успела свой нос в рукопись сунуть. Три главы прочла. Но если я буду высказываться, Сергей Кузьмич уши мне надерет. А про вас он мне так сказал. Только это по бесконечному секрету: «Придет к тебе этот головастый капитанишка – немедленно ко мне». Так что идите смело.
Демин открыл дверь. В просторном кабинете, кроме самого Батурина и его заместителя Оленина, никого не было. Они сидели друг против друга и, по-видимому, говорили о нем, потому что мгновенно смолкли. Батурин с грохотом отодвинул кресло и пошел навстречу Демину, широко раскрывая для объятий руки.
– Батенька ты мой! Летчик мой простоволосенький! – завопил он, целуя Николая в плохо выбритые щеки. – Вот порадовал старика. Да я уж сколько лет такой удачи не видывал. То, что ты написал, миленький, это знаешь что такое? Со дня окончания войны ждем. Где ты, родной, подсмотрел своих героев, где ими надышался? Хотя погоди. У тебя и у самого столько орденов. Ты, наверное, все свои переживания, всю душу излил. Но разве в этом дело! Можно пройти огни и воды и ничего не создать. А ты! Ведь это же такой вклад, такой вклад! Впрочем, что я говорю? – обратился вдруг он к Оленину. – Что я говорю, Виталий Федорович?
– Вы сейчас не говорите, а кричите, – улыбнулся Оленин.
– К черту эмоции! – возвысил голос главный редактор. – У меня своя теория, от которой я не отступаю уже свыше двадцати лет. Люди несут в литературу пережитое, увиденное, выстраданное. И вот такие, как он, создают новое, впервые открывают перед читателем уголок неисследованный и страшно притягательный в нашей действительности. А ты молчи! – махнул он вдруг на Демина. – Ты должен только присутствовать, когда старшие дискутируют, быть терпеливым и поглощать мудрость. То, что ты написал, просто здорово. Ты впервые с такой яркостью дал фронтовое небо с его запахами и красками. А люди этого неба! Фатьма Амиранова, ее командир Муратов. А рассуждения о закономерности войн и о возмужании народов, сражающихся за правое дело. Черт побери, ведь это же целая философская концепция.
Демин сосредоточенно молчал, готовый вовремя ответить на любой возникший у Батурина вопрос. Мысленно он перебирал еще и еще раз все страницы рукописи, вспоминая обобщения и философские выкладки, сделанные в ней Леней Пчелинцевым. А Батурин все сыпал и сыпал:
– А как он поставил вопрос о личности командира, ответственного за бой. От личности такого человека, от его таланта, умения предвидеть порою все зависит. Если мудр и прозорлив командир, так и войско его бьет врага без промаха. А если он старенький, тупой, с мозгами, заплывшими от неспособности думать и анализировать, он не только полк погубит, но и дивизию, и армию. Смело поставлен вопрос о роли личности на поле боя.
Батурин, разлохматив седеющие волосы, заговорил об образах повести с горячностью истинного художника.
Распахнув полы черного пиджака и запустив тонкие пальцы под ярко-коричневые подтяжки, он быстро заходил вокруг стола:
– Нет, ты чародей, Демин. Взять хотя бы твою героиню. Ведь это же королева в солдатской шинели. Ее любовь к Муратову. А их последний совместный боевой вылет. О! Все это бесподобно. Конец у тебя, правда, несколько подгулял… Обычно люди к концу расписываются, а ты как выдохшийся бегун перед финишной ленточкой. Но мы это поправим. Так, что ли, Виталий Федорович? – обратился он к Оленину.
– Конечно, Сергей Кузьмич, – с готовностью согласился заместитель. – Я настолько влюбился в эту рукопись, что готов на все возможное, если, разумеется, Николай Прокофьевич примет мою помощь.
– Не примет? – воинственно поднял подбородок Батурин. – Пусть только попробует не принять.
Они были внешне совершенно разные – порывистый мужиковатый Батурин и Оленин, с тонким, бледным лицом и спокойными серыми глазами за стеклами роговых очков. Батурин подошел к Демину.
– Каков итог? Мы вынимаем из очередного номера довольно вялую повесть о лесорубах и заменяем ее твоею. Вся редколлегия единогласно меня поддерживает, потому что «Ветер от винта» – это действительно открытие. Дай я тебя поцелую, летчик. – Батурин прижал к себе Демина, обдал его запахом хороших духов и дорогого коньяка. Установив, что Сергей Кузьмич был малость под хмельком, Демин твердо решил: вот и настало время действовать. Но был он все-таки человеком, воспитанным армейской дисциплиной и до крайности деликатным. То, ради чего он затеял всю эту историю с клеенчатой тетрадью, ради чего пришел в редакцию, подчиняло себе весь образ его размышлений. Он думал о Заре, и только о Заре. Он долго молчал, но как и всякий настоящий летчик, выпалил все сразу.