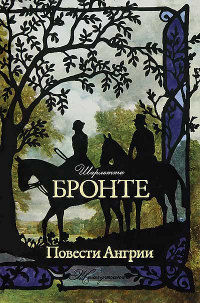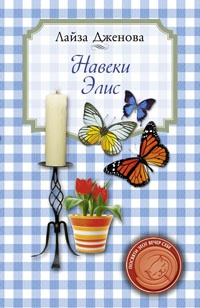Книга Тень скорби - Джуд Морган
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Да, да.
— Тогда вам следует быть готовой раздеться донага. Никаких пряток. Не вздумайте укрываться за бахвальством или высокопарными понятиями о гении, вдохновении, за утверждениями, что нужно просто позволить этому литься наружу, и тому подобной ерундой. Вы должны прилагать усилия, еще и еще, и только тогда сможете предстать перед читателем и сказать: «Я сделала все возможное, чтобы создать это, и это лучшее во мне». — Внезапно у него поднимается кожа на голове. — Помню, у нас была схожая беседа с вашей сестрой, мадемуазель Эмили. Нет, не беседа, я говорил, а она решительно сопротивлялась. Интересно, восприняла она что-нибудь из этого? Я питаю надежды. — Палец абсурдной ревности толкает Шарлотту под ребра. — Так, значит, не удалось уговорить ее вернуться? Ну что ж, я знаю силу этой воли. Не хотел бы я сражаться с ней по-настоящему. Думаю, к другим она была бы такой же беспощадной, как и к себе. Но боюсь, мадемуазель Бронте, что вам будет одиноко без сестры. Конечно, ваш французский сейчас настолько свободен, что вы можете беспрепятственно общаться с остальными учителями. Кроме того, мадам Хегер присоединяется ко мне в надежде, что по окончании дневных трудов вы могли бы навещать нас в наших апартаментах и чувствовать себя en famille, так что…
— Спасибо, месье Хегер… но не может ли это оказаться очередным мнением света? — Шарлотта улыбается, хотя улыбка воспринимается как-то отдельно от нее. — Если женщина одна, ей обязательно должно быть одиноко?
— Я не говорю, что все мнения света ошибочны. Я говорю лишь, что их надо проверять. — Его взгляд мрачен, но ласков; потом он вдруг потягивается и улыбается. — Это мне кое о чем напомнило. О моем дорогом покойном отце. Хотя наше имя указывает на немецкое происхождение, отец всегда питал сильнейшую неприязнь к тевтонцам. Всего один раз в жизни он был в немецком городе, когда дела привели его в Гамбург, — и там лошадь наступила ему на ногу. Этот случай почему-то укрепил его во всех предубеждениях. И после него (настолько прочной оказалась связь понятий) стоило только отцу увидеть, что кто-то хромает, он говорил: «Немец, думаю, — вот бедолага!» — Месье Хегер посмеивается, смотрит на часы. — Что ж, я должен идти знакомить с математикой маленьких мальчиков, которые, боюсь, откажутся с ней знаться. Спасибо вам, мадемуазель Бронте, за… — он постукивает себя по виску, — за подкрепление.
Шарлотта смотрит на место, где он стоял, размышляя о последнем слове. Подкрепление: как чашечка кофе или ячменного отвара. Как питье, и воздух, и солнце, и сама жизнь…
Шарлотта пробует. Она с самого начала сомневалась, но предложение сделано из добрых побуждений, и на него следует откликнуться хотя бы раз или два: просто чтобы посмотреть. Итак, в час, когда они с Эмили обычно удалялись в свой занавешенный альков, в час, когда мадемуазели Бланш, Софи и Мари собираются у камина в классной комнате, чтобы нежно ненавидеть друг друга, Шарлотта присоединяется к месье и мадам Хегер en famille.
Их гостиная очень уютна и не лишена очарования — книги, сваленные в кучу на скамеечке для молитвы, как знак разума, который превозмогает суеверие, — и никто не скажет, что здесь есть хоть мельчайшая крупица чего-то сухого или формального. Две старшие девочки, румяные после ванны, приходят поболтать, сонно прислониться к папиным или маминым коленям, или даже к коленям Шарлотты, и похвалиться своими маленькими измятыми рисунками. Лампа тускло светит, голоса мягко набухают и затихают, мадам Хегер делится тем, что откровенно является старой шуткой над няней про чулки, и месье Хегер перебирается в другое кресло со словами: «Клара, этот эндивий[83]кажется мне несвежим, откуда он взялся?» Мадам Хегер подходит, щиплет его за нос, бегло ласкает его лицо и говорит: «Константин, — в рабочее время они, конечно, никогда не называют друг друга по имени, — ты ведь говорил на прошлой неделе, а потом забыл, хотя рассказывал красиво: когда куришь слишком много сигар, теряешь ощущение вкуса». И месье Хегер начинает хмуро оглядываться по сторонам и в шутку надувать губы, как будто ищет, кто бы его поддержал, а Шарлотта сидит на одной затекшей половине ягодиц, смотрит на книгу, которую принесла с собой, и не хочет поднимать головы.
Нет. Не получается; и если ей хочется улететь от этого на край земли, значит, это просто показывает… в общем, почти как говорила Эмили: «Я здесь не для того, чтобы вести светские беседы. Я здесь по другим причинам. Личное не имеет к этому никакого отношения».
Лучше уж дортуар. Звон колоколов, слышный издалека, тонко отмечающийся в сознании, как будто пульс бьется не на запястье, а в ухе; длинный ряд занавешенных белым кроватей. Одинокая — да, возможно. Одинокая классная комната, одинокое преподавание, одинокий ужин в длинной, освещенной лампой столовой, журчащей от французской болтовни. Но на уроках месье Хегера — он учит ее французскому, а теперь и она начинает учить его английскому — она не одинока. Простое уравнение. Нет нужды думать об этом.
Но мадам Хегер много думает об этом.
Мадам Хегер рассматривает несколько фактов: да, она удовлетворенная, уверенная в себе, влюбленная, причем взаимно, женщина, а также образцовая мать и успешная в самостоятельно избранной работе личность. Сладко до тошноты, быть может? Но, безусловно, она будет права, если скажет: «Я работала для этого. Я ценю это. Я не позволю поставить это под угрозу».
Она знает, что такое свержение. Эта безмятежная, благопристойная женщина, разглаживающая скатерть, терпеливо ведущая первый класс по алфавиту, бросающая нейтральный взгляд на свое отражение в зеркале перед тем, как отправиться на мессу, никогда не расстается с мыслью о катастрофе.
«Мир такой, какой он есть», — говаривала тетя Анна-Мари. И это был не словесный кульбит, а очень ясное предупреждение. Нужно быть бдительным, нужно хранить и оберегать, нельзя полагаться на мечты и надежды. Это падший мир, в котором, если повезет и если самоотверженно трудиться, можно что-то спасти. Спасение и избавление. А по всему краю этого мира — красная наползающая пропасть. Ближе, чем ты думаешь.
Отец мадам Хегер был émigré[84], бежавшим от Французской революции. Он выехал рано, в восемьдесят девятом, когда посредственные люди рассуждали, какие блага принесет им революция. Но не месье Паро. Он видел надвигающийся красный край. Он поселился в Брюсселе, занимался садоводством и ботаникой, рассудительно выбрал жену и наблюдал, как по другую сторону границы его представления о человеческой природе получали жуткую наглядную демонстрацию. При определенных обстоятельствах это должно произойти. Стоит только пойти на уступку, скажем: «Хорошо, на этот раз позволим, в силу особых причин, но потом будем рациональны, обуздаем», — и пошло-поехало, закружило в смертоносном карнавале.
Его сестра, тетя Анна-Мари, была монахиней в женском монастыре в Шарлевиле, одном из очагов сопротивления маршу революции. Ей удалось сбежать: она пересекла границу в одежде крестьянки и пришла на порог к брату в деревянных башмаках, полных крови. Она была спасена. Анна-Мари была должным образом благодарна, но — как она позже рассказала своей любимой племяннице Кларе Зое Паро, будущей мадам Хегер, — ей было не до ликования. Другие монахини отправлялись на гильотину, некоторых сначала обесчещивали: заставляли умирать дважды.