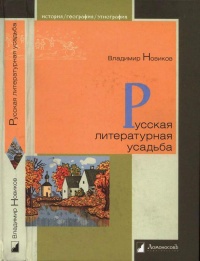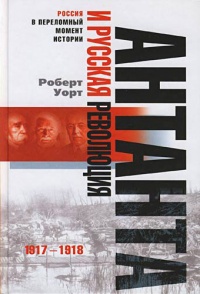Книга Русский Париж - Елена Крюкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«А что, их ждет простая жизнь простых людей. А ты думала — твои дети вырастут не простые, а золотые?!»
— Поезжайте, — сказала она просто и горько, подошла к Семену и потрогала его за рукав пиджака. — Это судьба. Семушка, снимите пиджак, я постираю. Лидия Чекрыгина в гости приходила, два куска синего мыла подарила.
* * *
От отчаяния, от безысходности — ночью села писать. Как встарь.
«Стихи, где вы? Вы свободные ангелы: то слетаете из-за туч, то улетаете, бросаете, и никакими молитвами… Ангелы, смеетесь надо мной. Я поменяю шкуру. Я змея, я вылезу из ветхой одежки, и опять нарастет новая, красивая и прочная кожа. Пусть едут! Их дело. Я не выменяю гривенник на алтын. Ну же, давай, вперед! Ручка, бумага, друзья! Я умру — останется это, вот это. Начерканное, в кляксах чернильных, в пятнах, зачеркнутое и снова — начатое: наперекор всему».
Первое. Что — первое? Кто — первый?
Слово, сойди…
Аля стонет во сне. Может, она впервые влюбилась. Скрытная, в нее пошла — не расскажет ни за что. Только когда все свершится. Либо в подоле принесет, либо свадьбу сыграют. Семен, где деньги на свадьбу? В карманах твоих генералов?
Покосилась на Нику в кровати. Боже, взрослый уже. Брови густеют. Мальчик, Господи, а завтра война. И мальчикам — к ружьям, к пушкам, к самолетам. Она не успела его побаловать вволюшку. Скудно они живут, скупо. Только и радости было в маленькой жизни, что — море.
Там, в Ницце.
Синяя чаша пьяного моря. Выпила — до дна.
Там, в Ницце, та ночь. Никому не говорила. И не скажет. И сама не вспоминала. Зачем вспоминать? «Господи, благослови этого человека. И песок. И крупную гальку, — теплые камни так блестели под луной. И зеленую толщу моря. Господи, дай Ты ему радость. Еще одну — такую же: как та ночь. Единственная! Таких у людей не бывает. А завтра все равно война. Она уже идет. Мы обманываем себя: она далеко! Далеко, да. Но ее гарь приносит ветер».
Ветер бил в оконные стекла. Ветер катил валы ледяного соленого воздуха с далекого океана. Дом — корабль, и плывет. И они плывут внутри, в каюте, где обречены ютиться, жить, дрожать; и начнется шторм, и бортовая качка сменится килевой, и Бог будет смеяться над жалкой людской скорлупкой, равнодушно глядеть с черных небес, как она потонет.
«Смотри, народ, как это просто: закрыть глаза — увидеть звезды… и с выколотыми — видать».
Она начала. Вот это — первое: видеть и слепому, с выколотыми, выжженными очами.
Слепой идет. Щупает руками воздух. Ноги его шевелятся. Он — танцует.
Он — радости хочет.
И в пасти смерти — радости.
«Гляди, мой люд, как мы танцуем — гуртом и скопом, стаей, цугом, как хороводим — благодать».
Семен, прости! Я знаю, ты не мог иначе. Аля, прости и прощай! Тебя оторвут от мадам Козельской, бросят в зимнюю печь, в черную топку страха, и ты вспомнишь уроки мадам, как величайшее свое, крохотное, как детский перстенечек, счастьице. Но поздно будет! А ты-то думаешь — там светлые широкие проспекты, лица цветут улыбками, бесплатная учеба, бесплатный спорт, и танцы, любимые танцы тоже бесплатные — было бы желание! Аля, дурочка, родная, там — бесплатная смерть.
Ника, ежик угрюмый, ангелочек златовласый, медвежонок мой, богатырь! Николай Гордон, продавец устриц и трепангов… Николай Гордон, великий ученый… Николай Гордон, ссыльный, в пересыльной тюрьме, на выход, с вещами! Быстро в товарняк! Две минуты стоит! Ника, я тебя им — не отдам. Ника, все равно ведь на войну! Так лучше я — мать — тебя — провожу! Шарф на шее поправлю…
«Везде!.. — в дыму, на поле боя, в изгнании, вопя и воя, на всей земле, по всей земле — лишь вечный танец — топни пяткой — коленцем, журавлем, вприсядку, среди стаканов, под трехрядку, под звон посуды на столе — вскочи на стол!.. — и, среди кружек, среди фарфоровых подружек и вилок с лезвием зубов — танцуй, народ, каблук о скатерть, Спаситель сам и Богоматерь, сама себе — одна любовь».
Давно она так не писала. Стремительно, жадно, стоя над пропастью.
Черная пропасть, ее душа. Сколько уже ухнуло в нее — живых, любимых.
Лицо Букмана надвинулось. Лицо Розовского мелькнуло и пропало.
Лицо Игоря выплыло из черноты, из мрака и влаги приморской необъятной ночи — второю луной, ночным потусторонним солнцем.
Оглянулась на супружескую постель. Семен не спал. Глаза его блестели. Руки лежат поверх одеяла. Черные корни — на белом снегу. Снег. Они увидят его. А она — уже никогда.
«Сема, прости меня».
Не дала себе волю. Нюни и причитанья — все завтра. Сегодня — закончить.
Вздохнула. Стон вырвался помимо воли. Глухой, сдавленный.
— Анна? Вам плохо?
Не глядела на мужа. Дописывала судорожно, торопливо, боясь — вот последнее, самое дорогое, и оно уйдет, и она распрощается с ним, и между нею и словами лягут версты, рельсы, ветра.
Обнищала княгиня Тарковская. Обнищала враз.
И в страшном сне не помышляла б увидеть такое.
Банк, где деньги у нее лежали, закрылся: рухнул, погиб. Будто носом зачуяли — тут и воры подоспели: влезли в особняк, где спала княгиня на втором этаже, в просторной спальне, на широкой кровати, на фламандских тонких простынях, — напугали старуху до икоты обнаженным ножом, шныряли по комнатам, шарили, ногами стулья переворачивали, — нашли расходные купюры, в старом русском комоде, во французском паспорте, под аккуратно сложенным крахмальным бельем. Уходя, насмешливо бросил главарь, переступая через порог и отхлебывая из ополовиненной бутылки сладкий мускатель: «И чтоб никакой полиции, бабушка! Ты нас не видела, и мы тебя не знаем!».
Ушли. Старая княгиня долго лежала без движенья, потом перекатила голову по подушке. Слеза сбежала по виску, растаяла в зефире кружев. Все, кончилось роскошество твое, княгиня Маргарита Федоровна. Да и жизнь кончается, аминь.
Рауль пришел утром, открыл дверь своим ключом — и застал пейзаж разгрома: ветер качал занавески, княгиня лежала вверх лицом в постели, одеяло сползло на пол, и Рауль со страхом и стыдом, с жалостью увидал голые ноги княгини — два коричневых дубовых бревна, со сморщенной кожей на щиколотках, облезлыми пятками, с мертвой голубизной ногтей.
— Мой мальчик, — прошелестела княгиня, удивленно слушая свое хрипенье, — лучше бы меня убили.
Рауль обнаружил, что все еще хуже, чем он ожидал. Грабители унесли не только деньги — они сложили в чемоданы много ценностей из коллекции русского искусства, что хранилась в особняке. Картины из рам вырезали ножом. Исчезли два пасхальных яйца Фаберже, иконы Николая Рериха, этюды Левитана, три женских портрета кисти Серова.
И тот, золотой, любимый плат Рауля — тоже украли.
Губы кусал. Хорошо, что многое осталось. Грабили — и боялись. Хотели — скорее.