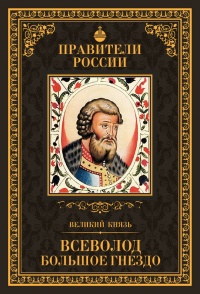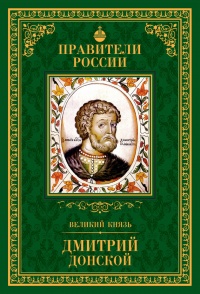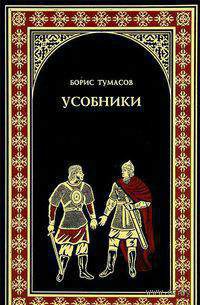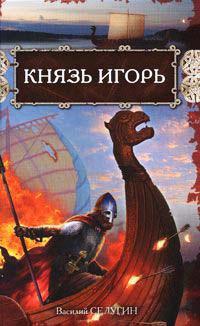Книга Великий стол - Дмитрий Балашов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поначалу великий князь с митрополитом сторонились друг друга. Михаил больше сидел наверху, в беседке, обдуваемый ветром, обозревая плывущий караван, извивы Волги, зеленые берега и осыпи крутояров, на которых все еще щетинился лес, не желающий уступать места ковыльному натиску степей. Думы его были невеселы. Тревожил Новгород, едва укрощенный, тревожил московский князь, тревожил юный Дмитрий – как-то он там? На пятнадцатом году можно и натворить беды, уже и ближний боярин за шиворот не возьмет. А сын рос нравным, крутым, уже и прозванье получил от холопов: Грозные Очи. Должен быть грозен князь! Но и мудр, но и добр порою. Хотя ему самому, Михаилу, доброта давалась все трудней и трудней, девять лет власти сделали свое дело… Второй сын, Саша, тоже тревожил. Этот, напротив, излишнею легкостью нрава. Или уж у него, у отца, столь требователен взгляд на детей? Этим детям править Русью. Тут подумаешь! Константин, тот еще был непонятен. Красивый, большеглазый, высокий, а – робковат. Хоть, конечно, третий сын, а все же его сын, Михаила! Он сам никогда не робел на ратях, ни на охоте, ни в иных путях княжеских. Чуял восторг, гнев, прилив удали, а страха – никогда. Разве за кметей своих, а за себя – нет. Быть может, потому, что о себе думать времени не хватало, может, и оттого, что не убывала сила в плечах, годы не чуялись еще телом, разве – душой иногда, как нынче, и то перед неизбежным, перед неподвластным ему, там, где и сила бессильна… Раздражало и то, что рядом этот чужой и, вместе, столь уважаемый многими муж – митрополит Петр. Не знал, как держать себя с ним, как и речь вести, после Переяславского-то собора!
Петр поначалу пребывал в глубине корабля, но вот как-то тоже вышел, сел в раскидное креслице, с любопытством оглядывая сине-зеленое приволье. Михаил покосился, Петр слегка поклонился и улыбнулся князю. Так и сидели в молчании до часа полуденной трапезы. Тут уж нельзя было промолчать, следовало сказать нечто, пригласить к столу. Петр к столу княжескому сел, но лишь испил легкого квасу с медом, а от еды отказался вовсе, изъяснил навычаем своим. По Петру видно было, что и правда – не чревоугодник сей муж. Ни жира, ни лишнего мяса не чуялось в его просторно-сухощавой, как бы иконописной стати, в долговатом горбоносом лице, с крупными яблоками глаз в больших отененных глазницах, в чистых, с западинами худобы, линиях щек и вогнутых седоватых висков. И одет был просто митрополит: в светлых холщовых ризах, с единым золотым митрополичьим крестом на груди и тяжелым перстнем-печатью на пальце. Руки были у него чуткие, тонкие, с долгими перстами, и Михаил вспомнил, что Петр, кажется, сам иконописец.
Митрополит тоже любопытно всматривался в бугристое, тяжелое, с широко расставленными выпуклыми глазами лицо князя, в крутые взлысины и темные вьющиеся волосы хозяина Русской земли, в его большие мощные длани, в огромные мышцы предплечий. Зримая сила Михаила Ярославича, ясно ощутимая тяжесть властности настораживали Петра. Он знал, что с излишнею силой подчас соединяется заносчивость и необузданность норова. На Москве о великом князе говорили нехорошо, а во Владимире наразно. Петр должен был признать для себя, что не понимает князя, как и князь, видимо, не понимал, не чуял Петра. Посему Петр и медлил, не заговаривал. Наконец Михаил не выдержал, отверз уста для первых необыденных слов. Подняв на Петра свои тяжелые глаза, он сухо выразил сожаление в поступке тверского епископа:
– Впрочем, собор уже установил невиновность митрополита в хулах, на него возводимых!
Петр внимательно поглядел на князя, покивал. Помолчав, сказал мягко:
– Прискорбно не то, что охулили мя неправые и неправдою, прискорбно, что несть в русичах братней любви друг к другу, до раздрасия и доносов на брата своего! Сему, княже, достоит тебе, яко главе земли нашея, разумение многое приложити, речено бо есть: «аще царство на ся разделится…»
– Прилагаю силы, дабы одержати землю в единых руках! – сурово отмолвил Михаил, подумав про себя, что ни Петр, ни он сам сейчас ничего не скажут об Юрии, разве о новгородских делах, и, значит, все, сказанное днесь, будет лжа.
– Ведаю, что Юрий Данилыч много препон творит сему, и молю Господа об утишении страстей и вражды вашея прекращении! – спокойно возразил Петр.
Михаил вздохнул глубоко и сильно. В самом деле, показалось, что стало легче дышать. Словно некий груз великий камнем отвалил с души. И уже теперь совсем легко показалось толковать с митрополитом.
Больше, впрочем, ни об Юрии, ни о тверском епископе они не заговаривали. Обсудили зато новгородские дела и дела ордынские, паки и паки. Петр рассказывал (а Михаил расспрашивал и слушал жадно) о Цареграде, о волынском дворе, о латынском богослужении и о том, како ся держат Палеологи и константинопольский патриарх. Уже скоро перерывы в беседах, – когда приставали к берегу, варили кашу дружине, дневали или ужинали, – стали отяготительны тому и другому, ибо хотелось говорить и слушать еще и еще. От дел господарских и церковных скоро перешли к живописному искусству иконного письма, в коем Петр был знатцом великим, а также к пению церковному, в коем Михаил мог и сам кое в чем поучить Петра. И уже настал день, когда князь открыто рассказывал митрополиту о домашних трудах и трудностях в воспитании княжичей своих и прошал совета, а Петр, хваля Дмитрия, обещал, воротясь во Владимир, позаниматься с прочими, ежели княжичи приедут к нему.
– Порою долит и власть, и труды княжеские. Хочешь простой жизни, с женой, с семьей! – признавался Михаил.
– Святительская участь такожде многотрудна, в ину пору восхощеши и покоя, и уединения, а паче всего тишины! Быв игуменом, почасту завидовал я участи простых мнихов, спасающихся в горе Афонской! – ответно поддакивал князю бывший ратский настоятель.
Петру начинал все более нравиться тверской князь, а Михаилу все проще и душеприятнее становилось разговаривать с митрополитом. И хоть так и не было сказано слова о том, но к концу этого пути решилась участь тверского епископа Андрея, коему пришлось вскоре покинуть епископию и уйти в монастырь. Решилось и другое: Петр в Орде не поддержал происков князя Юрия, что сильно облегчило Михаилу тяжкие для него переговоры с Узбеком.
В Сарае их встретила почетная стража, и внешне все было так, как и всегда. Казалось, ордынцы всячески стараются загладить прошлогодний погром русских купцов. (Михаил уже знал, что пограбленным был частью возвращен товар и сбежавшие было тверские и иноземные гости начали возвращаться в свои лавки.) Еще шла война на восточной окраине великой степи, в Синей Орде, мусульманская конница Узбека теснила последних защитников древней монгольской веры, но тут, в Сарае, уже все было тихо. Узбек вовсю занимался реформами управления. Появился диван (совет при государе) и старший визирь, с почти неограниченными полномочиями. Дела страны решали теперь четыре главных эмира, одержавших четыре улуса Орды, из коих старший, беглербег, ведал войском и имел в подчинении темников, тысячников, сотников и десятников, – прежде подчинявшихся самому хану, – второй визирь распоряжался гражданскими делами государства, третий – денежными. На местах начинали плодиться муфтии – духовные наставники – и казы – судьи, секретари дивана, таможенники, сборщики налогов, начальники застав и прочие и прочие. Едва созданная администрация разрасталась, как половодье. Приемы стали пышнее. Русского великого князя встречали и чествовали, передавая из одних рук в другие, несколько эмиров разного ранга, среди коих Михаил, однако, почти не встречал знакомых лиц, а ежели и встречал, то видел в их глазах странное отчуждение, холодную почтительность, а два-три раза (и это было самое тревожное) – промелькнувший страх.