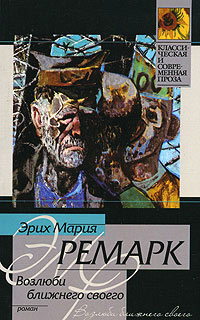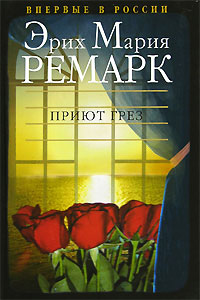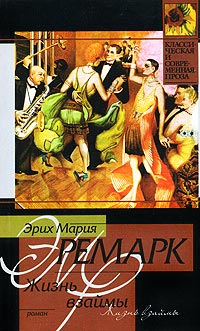Книга Обетованная земля - Эрих Мария Ремарк
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Несколько шоферюг ввалились в драгстор, с порога громко потребовав кофе и пончиков. Я расплатился и не торопясь побрел по городу в сторону Центрального парка. Прикинув, не стоит ли зайти в гостиницу переодеться, я решил, что не стоит: не хотелось расставаться с упоительным чувством медленного парения в невесомости; я продолжил свой путь по просыпающемуся городу, добрел до парка и выбрал себе скамейку.
В пруду беспокойно плавали утки, то и дело ныряя в поисках пропитания. Взгляд мой случайно упал на газету, я прочел заголовок и остолбенел: Париж капитулировал. Немцы сдали Париж! Париж свободен!
Некоторое время я сидел, боясь пошевельнуться. Я даже вздохнуть боялся. Казалось, само небо надо мной как-то тихо, без малейшего шума поднялось, горизонты раздвинулись, и сразу стало светлее. Я огляделся по сторонам. Да нет, мир и вправду стал светлее, подумал я. Париж больше не во власти варваров. И не разрушен. Только теперь я рискнул, очень осторожно, взять газету и прочитать статью. Я прочел ее очень медленно, потом еще раз. Приказ Гитлера уничтожить Париж не был исполнен. Генерал, которому поручили это черное дело, не выполнил приказ. Никто не знал, почему: то ли просто не успел, то ли не захотел подвергать бессмысленному уничтожению город и несколько миллионов гражданских лиц. Как бы там ни было — катастрофа не состоялась. Пусть случайно, пусть на мгновение, но восторжествовал разум; сотни других генералов выполнили бы приказ бездумно и беспощадно, но этот вот не стал выполнять. Счастливое исключение, благодаря которому удалось избежать массового смертоубийства и чудовищных разрушений. Возможно, оккупанты были уже слишком слабы и торопились удрать, но это неважно. Главное — Париж жив! Париж свободен! И это не просто очередной освобожденный от нацистов город — это куда больше.
Я раздумывал, не позвонить ли Хиршу, но что-то во мне противилось этой мысли. Еще не сейчас, подумал я. Пока нет, даже не Марии, а уж тем более не Реджинальду Блэку, и не Джесси, не Равичу и не Боссе. Даже не Владимиру Мойкову. Еще успеется, подумал я. Пока что я хотел побыть с этой новостью один.
Медленно бродил я по парку вокруг прудов, вдоль бассейна, где первые детишки уже пускали свои парусные кораблики. Я сел на скамью и стал наблюдать за ними. Я вспомнил искусственный пруд в Люксембургском саду, и вдруг Париж перестал, как прежде, быть для меня абстрактным понятием, он до боли осязаемо возник в памяти образами стен, улиц, домов, магазинов, парков, набережных, лип, что шуршат листвой, каштанов в цвету, площадей, знакомых мне даже неровностями брусчатки, — Лувром, Сеной, дворами и подворотнями, полицейскими участками, где не пытают, мастерской моего учителя Зоммера и кладбищем, на котором я его похоронил. Мое прошлое вставало над горизонтом, еще призрачное, но уже без боли, мое французское прошлое, полное щемящей грусти, но уже освобожденное, посеребренное утренним солнцем, избавленное наконец от ненавистных сапог варваров и от их бесчеловечных законов, что превращают людей в рабов, батраков, существ низшего порядка, а других и вовсе обрекают на гибель в крематориях или на голодную лагерную смерть.
Я встал. Я был неподалеку от музея Метрополитен. Золотистое небо ласково мерцало в древесных кронах. Теперь я знал, куда мне пойти. Прежде я этого боялся — не хотелось без нужды будоражить в себе брюссельские воспоминания; хватало того, что они хозяйничают в моих снах. Но теперь мне вдруг надоело от них прятаться.
Было еще очень рано, и посетителей в музее было совсем немного. Через огромный и холодный вестибюль я прошел, точно вор, осторожно и тихо, временами испуганно озираясь, будто за мной гонятся. Я знал, это глупо, ни ничего не мог с собой поделать; казалось, за мною по пятам следуют тени — они исчезали, как только я оглядывался. Сердце у меня колотилось, я с трудом заставил себя идти по середине широкой парадной лестницы, а не красться, прижимаясь к стене. Даже не думал, что давний шок заявит о себе с такой силой.
Только поднявшись на второй этаж, я остановился. Здесь в двух залах висели старинные ковры. Некоторые мне были даже знакомы по альбомам покойного Людвига Зоммера. Медленно брел я по залам, испытывая странное чувство двойничества, словно я одновременно и мертвый Людвиг Зоммер, который каким-то чудом на час воскрес, и тот безвестный студент-школяр, что некогда ходил по жизни, нося имя и фамилию, прежде принадлежавшие мне. Глазами Зоммера я смотрел на то, чему меня обучал Зоммер, но за увиденным мерещились погубленные мечтания моей юности, сгинувшей среди пожаров и смертоубийств. Так что я прислушивался к обоим, к Людвигу Зоммеру и к себе, мальчишке, — так слушаешь ветер, донесший из несусветной дали разрозненные отголоски, смутные и полные волшебных грез минувшего, доступного твоей обожженной памяти уже только по частям, фрагментами и отрывками вне последовательной связи, припорхнувшими, как вот сейчас, в этом вакуумном хранилище шедевров, где тебя на короткое время вырывают из беспощадного потока жизни, вырывают без боли, словно сам воздух здесь — опиум, анестезирующий память, так что даже на раны можно смотреть, не испытывая физических мук.
Как же я боялся своего прошлого! И вот оно передо мной, как книжка с картинками, которую я знаю, которую столько раз листал и которая теперь, путем загадочной ампутации чувств, у меня все равно что украдена. Я посмотрел на пальцы руки — пальцы были мои, но и Людвига Зоммера, и еще того, третьего, казалось, навсегда исчезнувшего в результате некоей магической манипуляции. Медленно, словно в подаренном сне, которого я на много лет лишился, а вот теперь увидел снова, я брел по залам, по своему прошлому, брел без отвращения, без страха и без тоскливого чувства невозвратимой утраты. Я ждал, что прошлое нахлынет сознанием греха, раскаяния, немощи, горечью краха, — но здесь, в этом светлом храме высших свершений человеческого духа, ничего такого не было, словно и не существовало на свете убийств, грабежей, кровавого эгоизма, — только светились на стенах тихими факелами бессмертия творения искусства, одним своим безмолвным и торжественным присутствием доказывая, что не все еще потеряно, совсем не все.
Я добрался до зала китайской бронзы. В музее имелся уникальный бронзовый алтарь, на котором были выставлены старинные бронзовые сосуды. Они безмолвно мерцали в просторе зала, бирюзовые, ребристые, извлеченные из земли тысячелетия назад и теперь омытые светом, словно джонки в белесом утреннем море или зелено-голубые рифы, обломки первобытных катаклизмов. Ничто в них не выдавало их исконной, бронзовой, желтовато-розовой окраски; они целиком обросли патиной прошлого, обретя в ней свою новую, завораживающую, колдовскую сущность. В них любишь то, чем они исконно не были, подумал я и поскорее пошел дальше, устрашившись их таинственной силы, способной вызвать духов, которых мне вовсе не хотелось будить.
Зато полотна импрессионистов снова подарили мне Париж и пейзажи Франции. Даже странно, из Франции мне ведь тоже пришлось бежать, меня там тоже преследовала полиция и донимали бюрократы, наконец, меня там даже упекли в лагерь для интернированных, откуда мне бы не выбраться, если бы не отчаянный блеф Хирша. И тем не менее все это казалось теперь скорее недоразумением, халатностью правительства, леностью чиновников, чем проявлением злой воли, сколь бы часто нас там ни хватали жандармы. Вот только когда они начали сотрудничать с головорезами из СС, стало действительно опасно. Сотрудничали, правда, не все, но все же достаточно многие, чтобы распространить немецкий ужас по французской земле. Тем не менее я сохранил к этой стране чувство почти нежной приязни, пусть слегка запятнанное кровавыми, жестокими эпизодами, как и везде, где вступала в дело жандармерия, но с преобладанием чуть ли не идиллических промежутков, которые постепенно вытесняли из памяти всю мерзость и мразь.