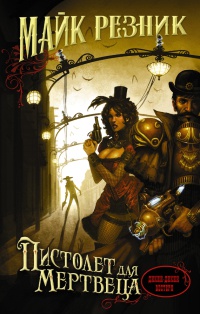Книга В индейских прериях и тылах мятежников. (Воспоминания техасского рейнджера и разведчика) - Джеймс Пайк
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Незадолго до окончания срока нашего пребывания в этой тюрьме, к нам подошел капитан Брэдфорд, мятежник-прово, и у нас состоялся очень приятный разговор. Он рассказал нам, что он был разведчиком, а свое повышение получил за старание и служебное рвение. Он сообщил также, что наше дело передали их Военному Министру, который отдал приказ «до конца войны держать нас в строгом заключении». Капитан Диринг тоже иногда навещал нас, однажды ко мне приходил католический священник — преподобный отец Дьюган, но кроме них мы за все это время не видели никого, только тюремщиков, других заключенных или тех, кто навещал их. Напротив меня отбывал свое наказание некто, избивший своего негра до смерти, а вот справа, наоборот — обвиняемый в убийстве негр. В камере слева — янки — за двоеженство, а надо мной — на втором этаже — негритянка, пытавшаяся отравить свою хозяйку, а где-то с ней по соседству — итальянец — солдат-федерал. Мятежники объявили его своим, сбежавшим из их армии дезертиром. А так называемый «Большой зал» был битком забит дезертирами, грабителями, карманниками, в общем, всяким мелким уголовным сбродом.
В одной из находящихся надо мной камер размещалось некое «устройство» — истинное бедствие для нашей страны, и позор для нас — свободных людей, а также свидетельство того, какие невероятные и совершенно невообразимые пытки процветали на Юге. Этот станок для избиения был придуман специально для того, чтобы совершенно незаконно и безнаказанно мучить заключенных и намного жестче, чем плантаторы-рабовладельцы. Я не видел этого «прибора», поскольку никогда не бывал в этой камере, но получил точное его описание от Лака — негра, которого неоднократно били на нем. Он рассказал мне, что эта штуковина сделана из брусьев прочного дерева в виде креста, на концах перекладины находятся железные кольца — ими охватывают запястья, так, чтобы руки были вытянуты, а внизу тоже почти такие же кольца — для ног. Наказываемого раздевают и распинают на кресте, а потом тюремщик берет хлыст — с короткой ручкой и широким тяжелым ремнем — и изо всех сил бьет его, след от удара достигает двух с половиной футов длины. Ремень ложится плашмя, на том месте возникает огромный пузырь, и в дальнейшем, если тюремщик бьет еще сильнее, кожа у края волдыря лопается — и кровь течет ручьем.
Вряд ли я могу вспомнить тот день, когда никого не били — иногда от шести человек и более, но обычно от трех до пяти. Иногда я считал удары, один раз их число дошло до 187-ми, жертва потеряла сознание и пытку прекратили. Он, должно быть, был очень крепким человеком, поскольку обычно люди впадали в бесчувствие между двадцатью и сорока ударами — в полном соответствии с той силой, с которой они наносились. Рядом с палачом обычно стоял более опытный мучитель — для того, чтобы вовремя закончить истязание. По характеру голоса я мог приблизительно определить возраст избиваемого. В одном случае он был низкий и густой — я понимал, что его обладатель — зрелый и сильный мужчина, в другом — это были жалобные крики слабой и изможденной, а иногда и вполне здоровой молодой женщины. Били даже детей и стариков. Очень часто, корчась на этом кресте они кричали столь пронзительно, что я изо всех сил затыкал свои уши, чтобы только не слышать, как жалобно они молят о пощаде. Избиением обычно занимались молодой тюремщик Эванс и начальник тюрьмы Бриджес, который, как я уже упоминал, был родом из Нью-Йорка. Тот юноша, который сидел тут за то, что он участвовал в избиении негра, после чего тот скончался, рассказывал, что они нанесли ему лишь 18 ударов и негру стало плохо, но потом палачи дали ему слишком много воды — и она окончательно доконала его.
— О! — сказал он. — Они могут выдержать несколько сотен, не давайте им слишком много воды и все будет хорошо.
Не только мне, но любому другому человеку было бы очень тяжело находиться в тюрьме, где сидят преступники всех мастей.
По истечении 57-ми дней капитан Ганн под сильным конвоем отправил нас в Чарльстон, а потом мы попали в руки генерала-майора Джонса, который — я сожалею, что должен сказать об этом — ограбил нас на 280 долларов деньгами Конфедерации. Что ж, это не так уж много, может быть об этом и вообще упоминать не стоило, но майор рассуждал иначе и все же пошел на то, чтобы забрать их у нас, несмотря на то, что даже ополченцы на них не позарились. Капитан Ганн и его люди разместили нас в доме генерала Джонса. Они относились к нам как к джентльменам, даже делились с нами своими пайками, потому нам на дорогу из съестного их власти нам НИЧЕГО не дали. Они, наверное, полагали, что во время поездки людям вообще питаться не нужно. В поезде я познакомился с д-ром Тоддом — шурином Президента Линкольна — очень умным человеком и джентльменом. Он дал каждому из нас по булочке и по кусочку ветчины, и, тем не менее, он был убежденным сецессионистом. Услышав, как грубо обращаются с нами солдаты-мятежники, он сказал им:
— Ну же, парни, давайте будем помягче с пленными.
Как я потом узнал, он был управляющим большим госпиталем — в Чарльстоне или где-то в его окрестностях.
Генерал Джонс (вот же, негодяй!) отправил нас в Чарльстонскую тюрьму с предписанием строго охранять нас, без всяких поблажек. По прибытии в тюрьму, конвой отвел нас к ее начальнику — некоему Джону Саймсу — который, хотя и не являлся человеком выдающегося ума, хотя я все же не верю, что он не смог бы украсть все, что плохо лежит — тем не менее, обладал определенным очарованием (а у какого вора его нет?). Он посадил нас в «башню» — самую недоступную часть тюрьмы, и читатель, возможно, сможет себе представить, что мы пережили, пробыв в ней ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ, находясь под огнем нашей же, стоявшей на острове Моррис, артиллерии. Мимо нас постоянно пролетали и рвались всевозможные снаряды, а когда один из них — трехсотфунтовый — взорвался почти у самых тюремных стен, нам показалось, что даже наша башня в тот момент подпрыгнула на своем основании.
Спустя несколько дней после нашего прибытия, в город привезли 1200 наших офицеров — чтобы поставив их под наши пушки, таким образом отомстить им за наши обстрелы. В их числе был взятый в плен у Чикамоги лейтенант моего полка Генри и майор Битти из 2-го Огайского пехотного, и именно они дали мне нож и небольшой напильник для того, чтобы сделать несколько ключей, которые, как предполагалось, смогут помочь мне сбежать. Я рассказал им о своем плане, и потом, по пути в свою камеру, они через решетку передали мне эти инструменты.
Я видел их всего раз, лишь несколько минут, мимолетно и знал, что после битвы под Чикамогой и с ними, и с их товарищами, обращались очень жестоко.
В этой же тюрьме было около тридцати цветных солдат из 54-го Массачусетского пехотного — они пытались штурмовать Форт-Вагнер. Бедняги! Им было очень тяжко, мятежники особенно злобились на них, и некоторых из них, как мне сказали, увезли дальше на Юг — нашлись люди, которые заявили, что они их рабы. Джордж Грант — отличный парень — настолько вошел в доверие к мятежникам, что был назначен тюремщиком, а потом ему удалось уговорить одну женщину-юнионистку принести ему кусок толстой листовой латуни, чтобы мы смогли из нее сделать себе ключи. Такой латунью облицовывали лестничные площадки — в общем, это было то, что надо. Через человека по имени Лезермен, я передал письмо флотскому лейтенанту Стоуксу, в котором попросил его написать моему отцу и сообщить ему, где я и что я. Стоукса отвезли на пункт обмена пленными, и вот тут, пользуясь правом рассказчика я хочу сделать небольшое отступление, чтобы заявить о том, что у меня есть все основания для полного отрицания всех таких частых обвинений наших врагов в адрес наших офицеров — их упрекали в том, что им плевать на благополучие солдат, в том что они эгоистичны и амбициозны, что и их интересуют только деньги и власть, а судьба солдат им безразлична. Стоукс служил на флоте, то есть, в совершенно иной армии, он никогда раньше меня не видел и ничего не знал в моем мире, но он серьезно интересовался моим делом, и сразу же после обмена, моему отцу в Хиллсборо, штат Огайо, он написал следующее: