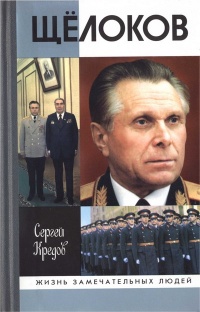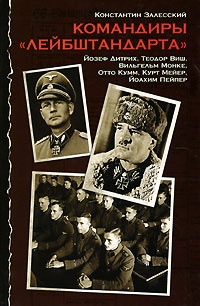Книга Виденное наяву - Семен Лунгин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Итак, с Некрасовым мы познакомились весной 1949 года…
А черная волна накатывалась все круче, все шире разливалась и наконец добралась до театра Станиславского, где я тогда работал.
Как-то меня вызвали в директорский кабинет и объявили (я ждал этого и все думал, как они мне скажут? А все вышло очень просто), что отныне должность моя упраздняется и я могу убираться на все четыре стороны. И дело тут исключительно в простом сокращении штатов, и ни о чем другом я, естественно, не должен думать. Но, если я хочу дождаться лучших времен, хотя они едва ли предвидятся, то меня хоть сейчас могут оформить рабочим сцены, причем не формально, а по существу – устанавливать декорации. Правда, в свободные часы, сверх того – если я готов заниматься текущими делами: вводить новых исполнителей на роли, следить за состоянием спектаклей и прочее, – то в такой подсобной режиссуре мне отказа не будет, конечно, не афишируя это и без дополнительной оплаты. Короче, в профессиональном значении жизнь моя становилась вполне бессмысленной.
Вот как раз в эти-то дни я и познакомился с Виктором Платоновичем…
Однажды в расписании объявили, что тогда-то с 15.00 до 17.30 состоится читка новой пьесы «Опасный путь» лауреата Сталинской премии Виктора Некрасова. Читает автор. Это было новое имя. В среде драматургов я о нем еще не слышал и ничего из созданного им не читал.
Мы закончили репетицию ровно в три и поднялись в верхнее фойе. Там уже собралось много народу. Мебельщики поспешно расставляли стулья из разных спектаклей, сдвигали банкетки. Скоро все расселись, еще переговариваясь, но постепенно затихая, готовясь слушать.
Все с любопытством поглядывали на автора, очень (во всяком случае, на первый взгляд) моложавого человека, который в это время как раз снимал пиджачок и аккуратно умащивал его на спинке стула.
Из актерских негромких разговоров я узнал, что кое-кто из старых студийцев еще довоенного «разлива» его помнит. Он вроде бы приходил на Леонтьевский прослушиваться к Станиславскому, но не прошел. И еще говорили, что он будто бы последний, кого Константин Сергеевич экзаменовал лично.
«Старики» стали ему кивать, как знакомому. Он отвечал на кивки, словно тоже кого-то вспоминая. Во всяком случае, в его колючих глазах вдруг вспыхнул какой-то «узнавательный» огонек.
– Вы сами объявите, – осведомилась директриса и, справившись по бумажке, добавила, – Виктор Платонович?
– Сам… Спасибо, сам, – весьма деликатно, но определенно сказал он, расстегивая третью пуговку клетчатой ковбойки. И теперь его загорелая грудь была видна чуть ли не до пупа. Чуть-чуть присвистывая на «с», он стал говорить о том, что пьеса эта лежала в литчасти МХАТа лет сто, если не больше. Ее улучшали, шлифовали, насиловали все кому не лень и довели, видимо, – тут он криво усмехнулся в свои тоненькие пижонские усики, – вот до этого совершенства, – и он поднял папку. Короче, того первого моего варианта, который хотелось бы вам прочитать, здесь нет, есть, правда, дома, в Киеве, но кто же знал?… Значит, либо отложить, либо читать то, что есть, но за этот текст автор ответа не несет. Как обществу, – он так и сказал: «обществу», – будет угодно…
Обществу было угодно слушать, все сидящие загудели.
А я все еще стоял. Он тоже еще не сел. И, помнится, что мы зафиксировали друг друга этакими нейтральными взглядами и уселись каждый на свой стул.
– Во-первых, – как-то торопливо сказал Некрасов и пожал плечами, – тут почему-то написано «Опасный путь», а не «Испытание», как было всегда… Видите, мои испытания уже начались. Ладно, пошли…
И он принялся читать. Не спеша. Внятно. Вроде бы поставленным голосом, во всяком случае, громче, нежели говорили. Он старательно играл за всех действующих лиц, менял голос, акцентировал наиболее важные места. Он читал, часто отрывая глаза от строчек, и проверял, какое впечатление производит его чтение. Я понимал, что этими нехитрыми уловками он рассчитывает вернуть тексту его первоначальный смысл, интонацию и колорит. Выглядел этот «драмкружок» довольно обаятельно, что вполне соответствовало некрасовскому облику, особенно в те миги, когда его брови вдруг лезли на лоб и глаза выражали прямо детское удивление по поводу очередной нелепости в прочитанной им фразе. Как он огорчался, хоть вида и не показывал!.. Но я отчетливо слышал, как скрежещет его душа от этих нежданных и незаслуженных обид. Я, пожалуй, никогда потом не видел у него такого расстроенного взгляда… У него всегда хватало чувства юмора одолевать всякую гадость.
– Почему ты не бросил читать? – спросил я его уже много лет спустя.
– А! – с нарочитой киевской ужимкой выдохнул Некрасов и махнул рукой.
…Наконец добрался он до конца пьесы, с чувством, близким к отвращению, захлопнул папку и тщательно завязал тесемку.
Раздались традиционные бессмысленные аплодисменты, на которые появилась директриса.
– Ну, кто желает выступить? – бодро воскликнула она на ходу.
Началась обычная вялая толковня со всеми полагающимися словесными атрибутами: «Новая тема… Явление, схваченное врасплох… В самом зародыше… А что, так действительно было?… Появление нового героя… Какой же он герой?… Обогащение драматургического фона… Эгоизм и стяжательство как побочный результат войны… Я не думаю, что такое бывает… Нет, бывает!.. Бывает…» Ну и так далее. Дошла очередь до меня.
Мне пьеса не понравилась. Мне показалось, что все в ней очень задано, что заранее предвидится конец, что, кроме постановки вопроса, в ней нет ничего неожиданного, но что этого и самого по себе было бы немало, если бы… Короче, пьеса, на мой взгляд, требовала усилий не столько редакционных, сколько композиционных, конструктивно… Не пойму, но что-то меня злило в этой пьесе, и если бы я не думал, что карьера рабочего сцены от меня все-таки не уйдет даже в самые раскосмополитические времена, то я бы и не стал выступать, да и автор, как теперь говорят, мне не показался, что-то снобское слышалось в его подчеркнуто киевской манере говорить, да к тому же расстегнутая до ремня рубаха и густая грива темных волос, как бы накинутая на покатый морщинистый лоб, тоже не радовали глаз. Эдакий перезрелый пацан с днепровского пляжа! Все в нем было не по мне, даже то, что под закатанным по локоть рукавом виднелся глубокий рубец – след от, видимо, ужасного ранения… Вроде бы в доказательство чего-то, что и без того известно. В общем, не понравился он, и все тут.
Я поднялся и сказал, что мне, к сожалению, не близок такой тип драматургии, что я предпочитаю пьесы, где меньше «быта» и «текущих» разговоров, и что мне всегда бывает неприятно подглядывать жизнь персонажей, так сказать, сквозь замочную скважину – эту фразу он никогда не мог мне простить и даже много лет спустя по всякому поводу говорил: «Так как же, через замочную скважину, а вот?..» – ну и так далее…
Его лицо, и так темное от загара, потемнело еще больше, стало злым. Кожа на скулах натянулась, но он ничего не сказал в ответ, только поглядел на меня с неприязнью, учтиво поклонился всем, благодаря за обсуждение, и ушел в сопровождении директрисы.