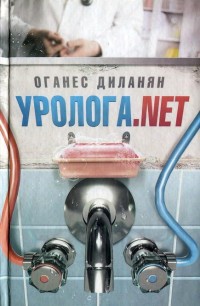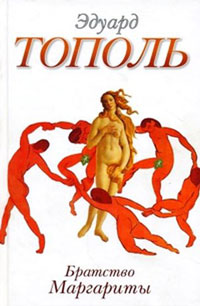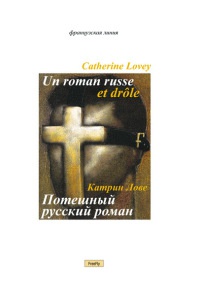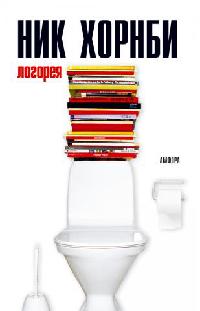Книга Новая Россия в постели - Эдуард Тополь
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но когда я вернулась домой, то буквально через пару часов, в тот же вечер — стук в дверь. Я открываю в ночной рубашке и вижу такого седого генерала — папу Олега. И его же маму зареванную. «Ради Бога, пойдемте с нами!» Я говорю: куда? «Пожалуйста, поехали немедленно! У нас что-то ужасное творится в квартире!» Моя мама говорит: езжай, раз просят. Я оделась, и мы поехали. Вхожу к ним в квартиру, вижу — тепло, комфорт, уют, темные шторы, мебель, все замечательно. Но мама ревет, а папа мне показывает дальше идти, одной, к Олегу в комнату. Я захожу и вижу потрясающую вещь. Ему только недавно сделали ремонт. У него были темные обои, а когда я стала с ним общаться и он бросил наркотики, ему захотелось иметь светлые обои. И папа с мамой ему эти обои переклеили. И вот, представьте, такая картина: я захожу в его комнату, а там вся мебель сдвинута к центру, все вещи свалены на полу, а на всех стенах, на обоях нарисовано мое лицо. Маленькое, крупное, совсем большое, метровое. Раздетая, одетая — вся стена зарисована мной. Причем все краски потрясающие, все переходы цвета — просто какой-то Матисс! И только губы белые. На всех портретах губы белые. Я поворачиваюсь, но мама в комнату не заходит, а папа говорит: ты видишь, что он делает?! Но я свои портреты вижу, а Олега не вижу. Думаю: наверно, у него депрессия, надо его в шкафу поискать. Потому что, когда у меня депрессия, я под стол залезаю или в шкаф. Возможно, это у меня с детства, с тех пор, когда я у дедушки в кладовке жила. Думаю: он тоже в шкаф забился или под стол. И я под стол заглядываю — нет его, в шкаф — тоже нет. Папа видит, что я тоже сумасшедшая, и уходит из комнаты. Я поднимаю глаза и вижу Олега на шифоньере. И сразу понимаю, почему папа с мамой так расстроились. Шифоньер весь кровью заляпан, а у Олега порезаны все вены. Точнее — проколоты или, я бы сказала, всколуплены. А он сидит и эту кровь в стаканчик собирает. А потом совершенно спокойно опускает в этот стакан кисточку и так же аккуратненько красит мне губы на портрете. Я говорю: «Олег, привет!» Я же отличница на факультете детской психологии, я знаю, что, если я сейчас испугаюсь, он тоже испугается. Нужно быть спокойной — ни плакать, ни кричать в таких ситуациях нельзя. А нужно нормально с ним разговаривать. Я говорю: чем ты там занимаешься? Он говорит: ой, как хорошо, что ты пришла, я тебя уже восемь дней не видел. И называет количество часов, которое он меня не видел. Я говорю: да, действительно. Расскажи, как ты жил? А он: «Понимаешь, я решил тебя нарисовать. Я этим занимаюсь уже два дня. Но вдруг понял: нет той краски, которая на твоих губах. Я пошел к Максиму, а у него тоже нет. И тут я понял, на что это похоже. Это на кровь похоже. И я решил таким образом закончить свои произведения». Я говорю: давай, одно заканчивай и слезай. Он говорит: сейчас, еще немножко вот тут дорисую и слезу. И он дорисовал этот портрет и слез. И мы с ним провели двое суток вместе. Он пришел в себя, и все закончилось замечательно. Вены ему на дому перевязали, даже в больницу не повезли. А потом я от него уже совсем ушла. Правда, ко мне его папа приходил. Оказалось: очень серьезный фээсбэшный начальник. Говорит: «Ты знаешь, я понимаю, что в нашем городе Олегу жизни не будет. Но, скажем, ты соглашаешься быть его женой, и вы уезжаете в Москву, в Питер, даже за границу. Я все оплачу. Пожалуйста! Он с тобой даже не колется». Это было смешно, я ему так и сказала.
…Все, Николай Николаевич, на сегодня — все. За окном светает, и медсестра уже топает каблуками в коридоре, идет колоть мне антибиотики. Уколет, и я усну. Мне 26 лет, а какая у меня, оказывается, длинная жизнь! Я устала ужасно…
Дорогой Николай Николаевич! Вот и прошел этот день — треть моей жизни, отпущенной мне докторским консилиумом. Но почему-то мне пока совсем не страшно. Может быть, потому, что я весь день ждала этой ночи, когда затихнет больница, вы уйдете на дежурство в другой корпус, а я смогу продолжить свой рассказ и еще раз, в последний раз пережить свою жизнь. А может быть, потому, что вы сегодня сотню раз забежали ко мне в «мою палату» в вашем кабинете и я каждый раз видела ваши безумные синие глаза, ваше отчаяние спасти меня, которое вы так неумело прятали за всякими шутками. Вы влюбились в меня, Николай Николаевич?! Это так замечательно! Это значит, что я живу — даже здесь, на больничном диване, изрезанная врачами, исколотая медсестрами и пожираемая сепсисом — я все равно живу!!
За окном темно, там прохладная ночь остужает июльскую Москву, и у меня появляется какое-то странно-минорное желание продолжить разговор не о своих победах, а о поражениях. Человек, говорящий о своих неудачах, а тем более о неудачах, связанных с постелью, он искренен, потому что победы мы всегда преувеличиваем, но преувеличивать свои поражения неохота никому, кроме мазохистов. А я могу позволить себе сегодня признаться в своих неудачах. Во-первых, насколько я помню, их было не так уж много. А во-вторых, это будет показателем моей честности и доверия к вам, Николай Николаевич.
Итак, неудачи. Начнем с моего первого мужа. О нет-нет — только не подумайте, что я стану жаловаться на него! Ни в коем случае! Мой Игорь был гениальным любовником, прекрасным мужем и звездой военного городка по части спорта, КВН и самодеятельности. Но что такое военный городок? Это шесть многоквартирных офицерских домов, два магазина, детский садик, школа и военные объекты — казармы, штаб, какие-то вышки, склады и подземные бункера. Солдат очень мало, только на подсобных работах, а все офицеры — технари и военные инженеры, потому что городок из сферы ФАПСИ. Закрытый, в лесу, в стороне от большой дороги, добраться к нам можно только машиной. Но даже если доберешься, это не значит, что к нам попадешь. Нужно оформлять специальный пропуск, причем заранее — три печати, пять подписей и прочее. А если вдруг объявляли тревогу или военное положение, то это как тайфун — выйти из городка невозможно не только военным, но даже их женам. Такое вот трудное было местечко, я после окончания института прожила там три года. Каждую неделю ездила на работу в город — меня, как всю из себя невозможно одаренную, сразу взяли в наш институт читать лекции по детской психологии. Причем у меня после института было три возможности. Первая: мне предложили должность начальника службы психологов в нашем Подгорске. Вторая: заведующей роно, потому что я проходила практику под началом бывшей завроно, а она на пенсию собралась и меня рекомендовала вместо себя. А третья: в нашем же институте стажером-преподавателем. Я говорю: «Мам, посоветуй кем мне работать». Она говорит: так, начальником службы психологов — заклюют материальными вопросами. Нам это не нужно. Завроно. Неплохо, конечно, но там помещение не отапливается, это бывший дом для сирот, там всегда холодно. Тебе это надо — сидеть там, ноги морозить и нагоняи получать? Иди в институт преподавать — там тепло, можно в туфлях ходить, и работа три раза в неделю до обеда, это годится для женщины. Я и пошла. Но там скука доисторическая: лекции-семинары, лекции-семинары. Меня это не устраивало, я завела КВН на занятиях, у нас были две команды, творческие задания, рисунки. Или, например, у них до меня были домашние задания каждый месяц, какие-то контрольные. Скажите: на кой черт это нужно? Я стала делать кроссворды — сначала разгадай слово в кроссворде, а потом еще опиши это понятие. Вот такие штуки. И что вы думаете? Стажером положено быть шесть месяцев, а меня через два месяца переводят преподавателем. Конечно, кто-то куда-то настучал, шум: как так? девочке двадцать первый год, а она уже преподаватель! Приехала комиссия три человека, ходили на мои занятия, слушали и решили: пусть получает зарплату преподавателя, а числится еще три месяца стажером.